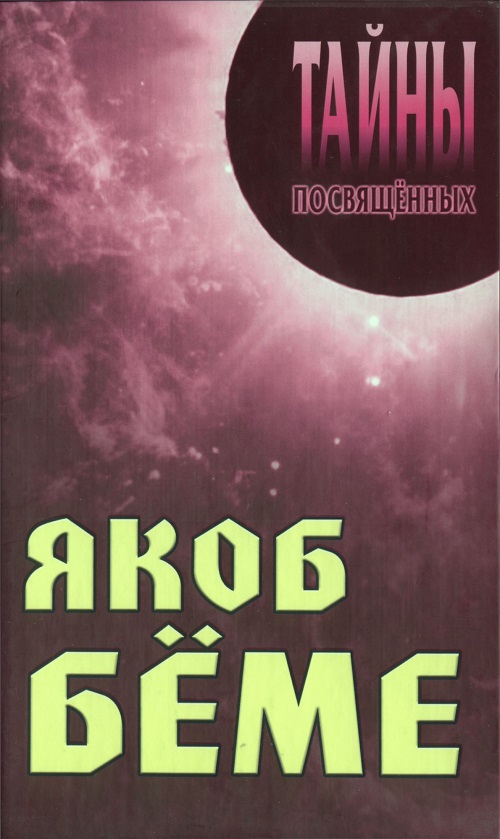Эммануил Сведенборг - Александр Алексеевич Грицанов Страница 21
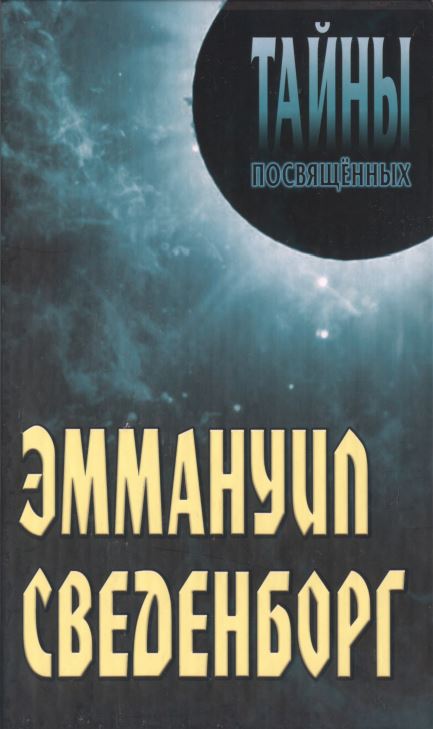
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Александр Алексеевич Грицанов
- Страниц: 77
- Добавлено: 2025-09-25 15:01:15
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эммануил Сведенборг - Александр Алексеевич Грицанов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Эммануил Сведенборг - Александр Алексеевич Грицанов» бесплатно полную версию:Излагаются вехи жизненного пути и содержание учения шведского аристократа Эммануила Сведенборга (1688–1772) — последнего из христианских мистиков, способного предвидеть ход событий, удаленных от него на сотни километров, и неоднократно описывавшего устройство вселенных других измерений.
Для широкого круга читателей.
Эммануил Сведенборг - Александр Алексеевич Грицанов читать онлайн бесплатно
Следует согласиться с Кассирером, полагавшим, что все это вряд ли могло побудить Канта — человека, не подверженного «авторскому тщеславию», столь подробно заняться «величайшим фантазером» Сведенборгом, если бы то, что он в нем нашел, не оказалось в удивительной для него самого косвенной связи с основным философским вопросом, к которому его привело собственное внутреннее развитие [51, с. 73]. Иначе говоря, истоки его интереса лежат гораздо глубже, чем об этом написано во введении к работе. Именно Сведенборг, фактически преувеличивший и деформировавший все основные черты тогдашней метафизики, стал для Канта своего рода карикатурой любой метафизики сверхчувственного. Фантастические видения шведского мистика он, по сути, приравнял к «воздушным замкам в мире идей» — т. е. теоретическим системам, воздвигаемым современными ему метафизиками. Но вернемся к самой работе Канта и посмотрим, как и за что он критикует Сведенборга.
Сам текст работы состоит из двух частей — догматической и исторической, каждая из которых, в свою очередь, насчитывает несколько глав — четыре в первой и три во второй части. В первой, так называемой догматической части, Кант ни разу не упоминает даже имени Сведенборга и целиком посвящает ее критике тогдашней метафизики. Другое дело, что ее представителей, которых он называет «сновидцами идей», «строителями воздушных миров идей» и т. п., он фактически ставит в один ряд со всеми фантазерами-духовидцами-визионерами. Для Канта фактически нет существенной разницы между воображением этих духовидцев и системами философии наиболее популярных тогда метафизиков в лице Вольфа и Крузия, которые, как пишет он, построили свои учения «не столько из эмпирического материала, сколько хитростью приобретенных понятий» [50, с. 320–321]. Вместо того чтобы апеллировать к данным опыта и познавать «здешниймир», они «прилежно и сосредоточенно направляют свои метафизические стекла на те отдаленные миры и умеют рассказывать нам о них разные чудеса», ссылаясь исключительно на сверхчувственные данные и факты [50, с. 320]. Вся разница между теми и другими состоит для Канта лишь в том, что метафизики для него — это «сновидцы ума» или «грезящие в области разума», а духовидцы — «сновидцы чувств» или «грезящие в области ощущений», вступающие в сношения с духами, и притом на тех же основаниях, что и первые. При этом никакая, даже самая искусная архитектоника построения не может, по Канту, возместить недостаток «строительного материала». Он полагает, что и те и другие видят то, что не видит ни один другой здоровый человек, и имеют общение с существами, которые никому другому себя не открывают, какими бы острыми чувствами он не обладал. Такого рода явления Кант сводит к чистой игре воображения и называет грезами — откуда и название работы. Грезы же, по Канту, это субъективно измышленные образы, которые обманывают чувства, представляясь как бы действительными предметами.
Конкретизируя дальше различия между метафизиками и духовидцами, философ делает это следующим образом. Первых он назовет «бодрствующими сновидцами», которые настолько углубляются в вымыслы и химеры своего богатого воображения, что мало вообще обращают внимания на свои чувственные восприятия и вовсе не занимаются точнейшей и терпеливейшей проверкой этих своих «данных» в опыте. Духовидцы же наяву и часто при исключительной яркости других ощущений относят те или иные предметы в места, занимаемые другими внешними вещами, которые они действительно воспринимают. Этот свой обман воображения они затем перемещают вовне себя и т. п. Канту непонятно, каким путем душа ставит эти свои внутренние образы в совершенно другое отношение, перемещает их куда-то вне человека и превращает в предметы, возбуждающие в ней действительные ощущения. Во всем этом ему видится не более чем обман. Поэтому он и призывает своего читателя не считать этих духовидцев «наполовину принадлежащими какому-либо иному миру, а записать их в кандидаты на лечение в больнице» и избавить себя от всякого дальнейшего исследования всех этих связанных с миром духов проблем. И если прежде такого рода адептов мира духов считали нужным иногда предавать сожжению, то теперь, юмористически пишет он, совершенно достаточно дать им слабительного. То есть, по Канту, это куда более эффективное средство, чем с помощью метафизики отыскивать какие-то тайны в воспаленном мозгу всех этих фантазеров. И уж совсем сбиваясь на шутливо-иронический, если не сказать хулиганский, тон, он ссылается на слова некогда весьма популярного героя одноименного сатирического стихотворения английского роялиста Сэмуэла Батлера Гудибраса, однажды заметившего: «Когда ипохондрический ветер гуляет по нашим внутренностям, то все зависит от того, какое направление он принимает: если он пойдет вниз, то получится неприличный звук, если ж он пойдет вверх, то это видение или даже священное вдохновение»(курсив И. Канта)» [50, с. 328].
В завершающей главе первой части работы Кант пытается сделать некоторые теоретические выводы из всех ранее приведенных рассуждений. Более всего его здесь занимает вопрос о том, почему эти рассказы о духах, о явлениях усопших душ, а также теории о предполагаемой природе духовных существ, «состоящие из одного только воздуха на чаше умозрений», приобрели, тем не менее, всеобщее доверие в обществе. Главную причину он видит здесь в той «обольщающей надежде», что каким-то образом человеческая жизнь может продолжаться и после смерти. Это и побудило, считает он, философов сочинить отвлеченную идею духов и привести ее в определенную систему. Однако вопросы о духах, а именно, каким образом они присутствуют в этом мире, как нематериальное существо может действовать в теле и через него — все это, по
Канту, находится вне сферы компетенции науки. Именно поэтому он и не позволял себе что-либо говорить о вещах такого рода, как и о загробной жизни вообще. Хотя рассуждать об этом стало пристрастием очень многих людей.
Кант считает свое исследование вполне исчерпывающим все философские усмотрения по данной теме, т. е. по вопросу о духовных сущностях; более того, он полагает, что, сколько бы самых различных мнений не приводилось об этом впредь, люди никогда не смогут узнать здесь ничего больше. В природе, по Канту, вообще нет доступного нашим чувствам предмета, о котором мы могли бы когда-нибудь сказать, что наше наблюдение или разум его целиком и полностью исчерпали, потому что природа беспредельно разнообразна, а человеческий ум, увы, ограничен.
В свою очередь, применительно к философскому учению о духовных сущностях дело обстоит совершенно иначе. Кант был убежден в том, что его как раз-то и можно завершить, но только в отрицательном смысле. Он имеет в виду здесь то, что существуют четкие границы нашего понимания
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.