Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024 - Сергей Иванович Чупринин Страница 4
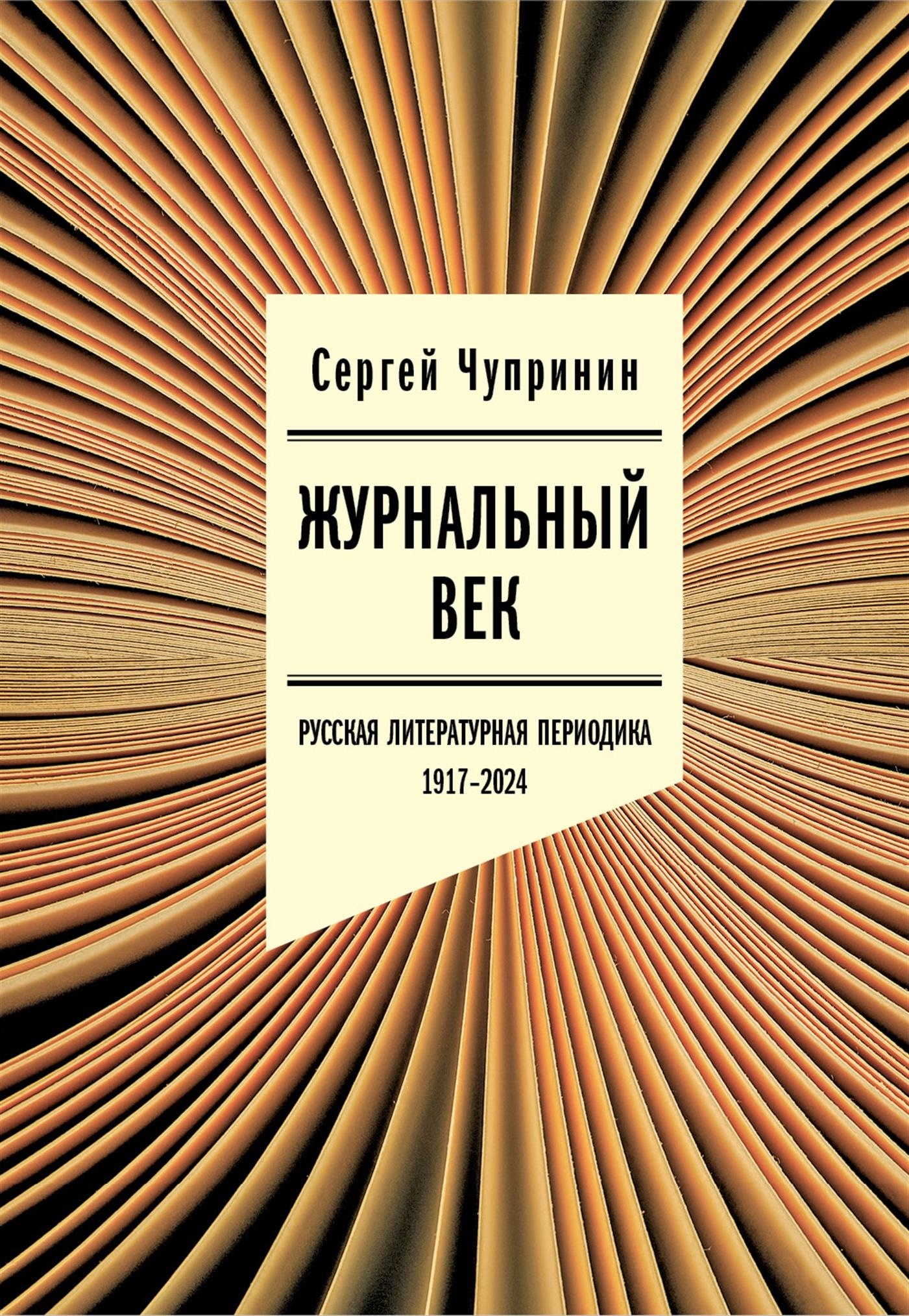
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Литературоведение
- Автор: Сергей Иванович Чупринин
- Страниц: 41
- Добавлено: 2025-10-05 10:00:51
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024 - Сергей Иванович Чупринин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024 - Сергей Иванович Чупринин» бесплатно полную версию:Новая книга Сергея Чупринина состоит из двух частей. Первая – «Двенадцать толстяков» – это сборник очерков об исторической судьбе старейших и наиболее известных периодических литературных изданий России. Вторая часть – «Вереница» – это справочник, содержащий краткие сведения обо всех оказавшихся в поле зрения автора русских «толстых» и «тонких» (равно «бумажных» и сетевых) литературных журналах, альманахах, серийных сборниках, газетах и вообще об изданиях, ставящих перед собою задачу публикации литературных произведений или их исследование. В этом труде, охватывающем более ста лет истории русской литературной периодики, автор выступает одновременно как отстраненный исследователь и как активный соучастник процесса, сочетая научный, публицистический и энциклопедический подходы и выстраивая сложную и объемную картину минувшего журнального века. Сергей Чупринин – доктор филологических наук, профессор Литературного института, главный редактор журнала «Знамя», автор книг «Оттепель: События», «Оттепель: Действующие лица» и сборника «Оттепель как неповиновение».
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024 - Сергей Иванович Чупринин читать онлайн бесплатно
Начало славных дел омрачено было, правда, нобелевским скандалом и необходимостью с кратким предуведомлением распечатывать в «Литературной газете» (25 октября), в «Литературе и жизни» (26 октября) старое, еще 1956 года, развернутое послание симоновской редколлегии с отказом в публикации «Доктора Живаго». Обязанность хоть и вынужденная, но неприятная, и, – по словам Лакшина, – Твардовский впоследствии всегда сокрушался, что принял участие в травле Пастернака тем, что опубликовал письмо симоновской редколлегии о «Докторе Живаго» и публично, хоть и чисто формально, к нему присоединился[13].
На работе над очередными журнальными книжками этот эпизод, впрочем, никак не сказался. Благо, задел от прежнего состава редакции оказался неплохим: для 7-го номера при Симонове уже были подготовлены путевые заметки В. Некрасова «Первое знакомство: Из зарубежных впечатлений», очерк Е. Дороша «Два дня в Райгороде: Из деревенского дневника», в 8-м номере прогремит «Джамиля» Ч. Айтматова. А в авторском активе, кроме недавних сидельцев В. Бокова, Н. Коржавина, Л. Копелева, состояли и А. Рыбаков, Н. Дубов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, даже Б. Окуджава и Е. Евтушенко…
Со стихами и стихотворцами Твардовский, впрочем, скоро разберется сообразно своему личному вкусу и эстетическим пристрастиям[14]. И если в ноябрьском номере за 1958 год еще появятся два стихотворения А. Вознесенского с выразительными названиями «Ленин» и «На открытие Куйбышевской ГЭС имени Ленина», то в публикации программного «Гойи»[15] ему уже откажут, да и в дальнейшем ни Вознесенскому, ни другим «трюкачам» ходу на новомирские страницы при Твардовском уже не будет.
И только ли «трюкачам»? К. Паустовский, напечатавший при Симонове повесть «Беспокойная юность» (1955, № 6), предложил Твардовскому ее продолжение «Время больших ожиданий» – и получил от нового главного редактора резкое письмо, датированное 26 ноября 1958 года, где говорилось и о необходимости приблизить «бедный» – по его словам – автобиографический сюжет к реалиям «большого времени, больших народных судеб», и о сокращении, в частности, «апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем „божеством“, каким он был для литературного кружка одесситов»[16].
Паустовский, разумеется, оскорбился, напечатал «Время больших ожиданий» у Ф. Панферова в журнале «Октябрь» (1959, № 3–5) и в частных беседах не раз с тех пор заявлял об «антиинтеллигентском» духе новомирской стратегии.
Придется признать, что известная правота в этих высказываниях, позднее повторенных В. Шаламовым[17], была. Верный своим демократическим, по сути скорее даже народническим установкам, Твардовский не без предубеждения относился к произведениям, где действуют не простолюдины, а избалованные, как ему казалось, горожане с вузовскими дипломами, пусть даже и попавшие под жернова сталинских репрессий. Например, А. Берзер вспоминает, что к «Хранителю древностей» Ю. Домбровского он отнесся без большого энтузиазма, просил сместить акценты с частной истории частного человека в сторону истории народной. Роман однако же напечатал (1964, № 7–8), тогда как отклонил и «Софью Петровну» Л. Чуковской, и «Свежо предание…» И. Грековой, и – с особенным негодованием – «Крутой маршрут» Е. Гинзбург.
Его, – рассказывает Б. Закс, – коробило то, что в этой героине так сильно сидит советская элитность, что она как бы чувствует себя противопоставленной всей другой арестантской среде, что как бы им так и надо, а меня за что?[18]
Конечно, и цензура вгрызалась в тексты, представленные редакцией, с особой свирепостью, поэтому ни «Синяя тетрадь» («Ленин в Разливе») Э. Казакевича, ни «Сшибка» («Новое назначение») А. Бека, ни «Исход» Ю. Трифонова, ни «Сто суток войны» К. Симонова, ни «Степан Сергеич» А. Азольского[19], ни переводы романов «Чума» А. Камю или «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя новомирских страниц так и не достигли, либо появившись в других журналах, либо десятилетиями ожидая своего часа. О чем-то – о «Воспоминаниях» Н. Мандельштам, первой версии «Детей Арбата» А. Рыбакова, «Очерках по истории генетики» Ж. Медведева – разумеется, и помыслить было нельзя. Однако во многих случаях срабатывали и капризы редакторского вкуса Твардовского либо его ближайших помощников, не допуская, например, к печати стихи и «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Июль 1941 года» Г. Бакланова[20], «Маленького принца» А. Сент-Экзюпери, «Трудно быть богом» братьев Стругацких, «Чонкина» В. Войновича, «Зиму 53-го года» Ф. Горенштейна, рассказы Л. Петрушевской или «Затоваренную бочкотару» В. Аксенова.
Однажды, – вспоминает А. Гладилин, – мы пришли к Твардовскому втроем – Юра Казаков, Аксенов и я, – пришли, естественно, не с пустыми руками. Твардовский с ходу опубликовал два рассказа Аксенова – «На полпути к Луне» и «Завтраки 43-го года»[21]. Почему меня отбросил – это я прекрасно понимал, но почему он не взял рассказы Казакова, вот этого я не понимаю до сих пор[22].
«Случай Казакова» действительно наиболее выразителен. Ведь Твардовский еще в отзыве 1958 года вроде бы признал, что «автор явно талантлив», что «он уже писатель», однако ни единой его строки в «Новом мире» так и не напечатал[23], советуя браться «за дело посерьезнее, с чувством большей ответственности перед читателем, с ясным осознанием того, что в искусстве на одних „росах“, „дымах“ и т. п. далеко не уедешь»[24].
Просчет великого редактора? Как знать, поскольку и единомышленники Твардовского были решительно того же мнения. Вот и А. Яшин, с восхищением читая казаковскую прозу, 26 февраля 1964 года записал в дневник, что все-таки «нет в его живописных рассказах ощущения эпохи, ее трагизма. Должно быть, он сознательно уходит от всего». Вот и А. Солженицын в ноябре 1967 года с сожалением вздохнул: «И какой же сильный и добротный был бы Юрий Казаков, если бы не прятался от главной правды»[25].
Это и в самом деле понималось в годы Оттепели как ключевое, определяющее: «ощущение эпохи, ее трагизма», «главная правда». Поэтому «Новый мир» Твардовского вернее называть не антологией лучшего, что было в литературе 1950–1960-х годов, а журналом с направлением, не только политически, но и эстетически ориентированным на нормы социального обличительства, разгребания грязи и на традиции критического реализма XIX века.
Границы этого направления были широки, но они были. Скажем, монументальные и сугубо «интеллигентские» мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», публикация которых началась еще в 1960 году (№ 8–10), или «мовистские» повести В. Катаева «Святой колодец» (1966, № 5)[26], «Трава забвения» (1967, № 3), «Кубик» (1969, № 2) помещались в них с трудом, и Твардовский, случалось, не скрывал своего редакторского неудовольствия[27]. Тогда как готов был горою стоять за «Большую руду» (1961, № 7) и «Три минуты молчания» (1969, № 7–9) Г. Владимова, «Тишину» Ю. Бондарева (1962, № 3–5)[28], «Вологодскую свадьбу» А. Яшина (1962, № 12), «Убиты под Москвой» (1963, № 2) К. Воробьева,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




