От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 57
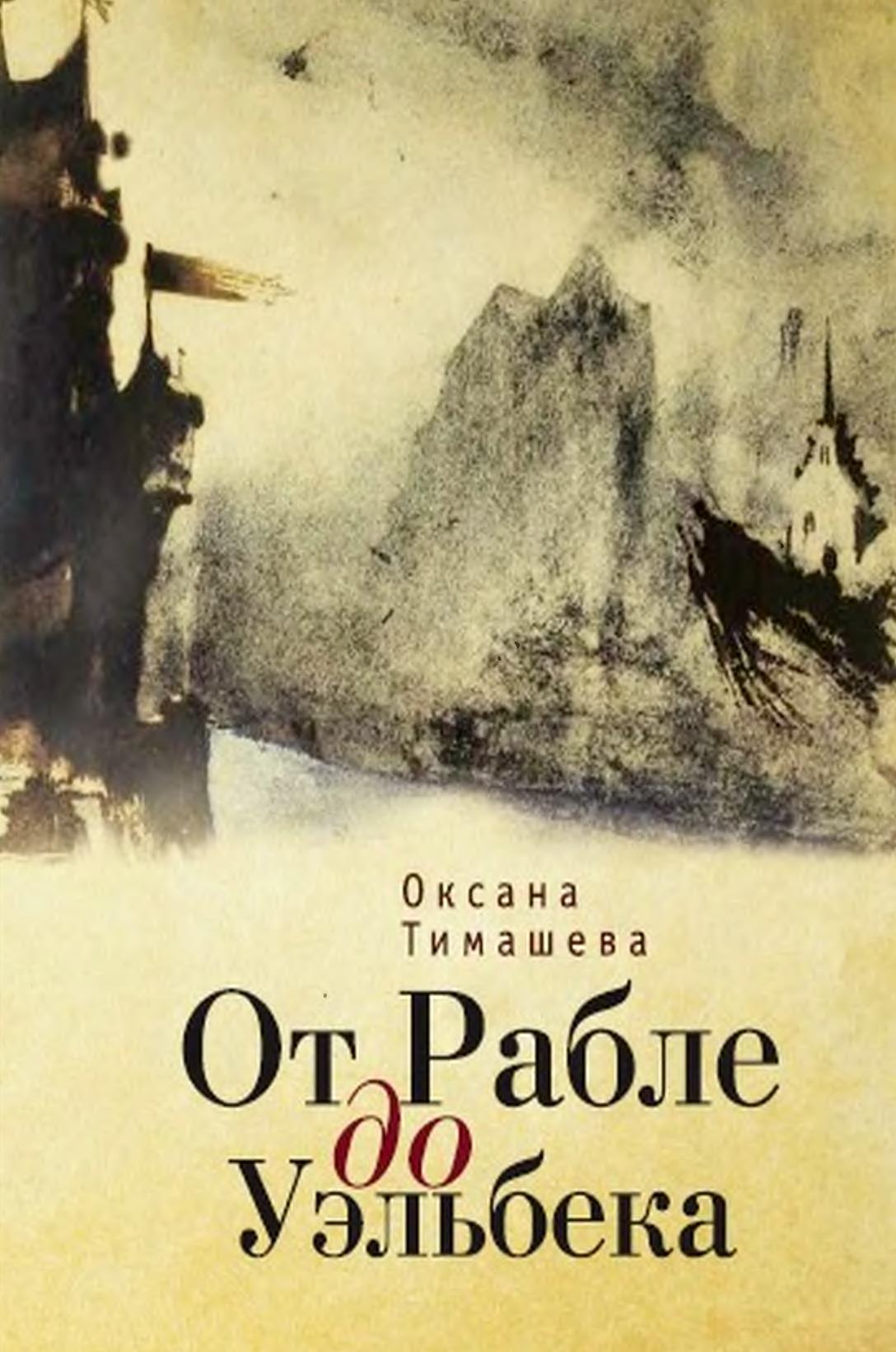
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
В обновленной музыкальной мифологии начала XX века список «мировых музыкальных инструментов» значительно расширен. Здесь и струнные, и ударные, и духовые: скрипки Блока и Хлебникова, колокол Белого и Блока, бальмонтовский мировой звон; мирель (мировая свирель) Хлебникова. Среди множества мировых образов поэзии мотивы инструментов выделяются как посредники между современным и архаическим прошлым.167 В системе ритуально-мифологических представлений— музыкальный инструмент— это, прежде всего предмет. Тело инструмента— это его форма, материал, способ изготовления, а также его «предыдущие существования» имеют почти равное значение с издаваемым инструментом звуками. Функции инструмента далеко не исчерпываются эстетической сферой, которая во многих мифологиях не обозначена. Гораздо существеннее включенность инструмента в гармонию мироустройства, участие в ритуале, волшебные свойства. Очень важны происхождение и принадлежность музыкальных инструментов, часто получаемых в дар от богов или культурных героев.
Инструмент изоморфен человеку и может быть его инкарнацией. Он входит в отношения тождества или трансформации со всеми элементами мифологического мира и самим миром. В традиционных мифологиях большое значение имеет и то, кому принадлежит музыкальный инструмент, и то, от кого он получен. Во множестве литературных сочинений существуют истории о дарении и похищении инструментов, о запретах и разрешениях не только играть, но даже слушать игру, видеть инструмент или наблюдать за его изготовлением. Принадлежность инструмента прямо связана с теми или иными ритуальными функциями, которые осуществились посредством игры. В поэтических текстах чаще инструменты бывают самозвучащие (свирель поет, труба зовет). Например, у Кузьмина в поэме «Форель разбивает лед» мы читаем: «О этот завтрак так похож/На оркестрованные дни, /Когда на каждый звук и мысль/Встает любя противовес:/Рожок с кларнетом говорит,/ В объятьях арфы флейта спит,/ Вещает траурный тромбон,/ Покойникам приятен он. /» Соединение колен флейты становится метафорой связи времен у Мандельштама: «Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать,/Угловатых дней колена, Нужно флейтою связать. /»
Состав музыкальных явлений реальной жизни, на которые откликаются поэты, весьма различен. У Блока и Бальмонта фиксируется источник звука и сам звук (музыкальный инструмент, человеческий голос), иногда жанровая принадлежность музыки (церковное пение, цыганский романс). Б. Пастернак, Г. Иванов называют композиторов или намекают на них Мне Брамса сыграют, тоской изойду', обозначают формы музыкальных произведений— прелюдии, этюды, марши, болеро: Я храбрые марши играю/ Скачу на картонном коне,/ И если я умираю,/Все звонко хлопают мне.
Музыка может напоминать о том, что она всеобщая и что она человечная (musica Humana и musica mundane). Последняя отражает стихию отношений между людьми: Мыс тобой в Адажио Вивальди встретимся опять (Ахматова); /Деревня, Моцарт и Жуан /И мрачный Германн, Всадник Медный / И ниже солнце иль туман… (М. Кузмин).
Очень часто русские поэты-символисты в своих стихах упоминают гаммы. Вероятно, ум у них — символ божественного мироустройства: «Ты слышишь, за стеной играют гаммы? (М. Кузмин). У М. Цветаевой в «Крысолове» флейта поет крысам гамму гамм, восходящую прямо во храм: Хлеще, хлеще! Рассыпай! Нижи хроматические гаммы лжи! (М. Цветаева) У Г. Иванова, пытавшегося утвердить несомненную значимость поэзии для современника звучит: Прохладно… До-ре-ми-фа-солъ/ Летит в раскрытое окно. / Какая грусть, какая боль!/ А впрочем, это все равно!/… /Что делать, если яд в крови/ В мозгу — смятенье, слезы-соль,/ А ты заткнула уши и/ Не слышишь до-ре-ми-фа-соль/.
Символисты проповедовали синкретизм и сами стремились к синтетическому охвату явлений искусства. Эта широта охвата дала себя знать и в выставках живописи «Мира искусств», и в «Вечерах современной музыки», и в «русских балетах», и в проектах монументальнодекоративных росписей в содружестве с архитекторами. Синестезия (единение звуков, запахов, вкусов), которую провозгласил еще Бодлер, в сонете «Соответствия», т. е. перекличка между различными ощущениями, одно из которых вызывает и внушает другое, повторяется, все ярче оформляется в творчестве всех символистов от этапа к этапу.
Отталкиваясь от науки и позитивизма, как ее оправдания, символисты с помощью одного только языка, энергетически заряженных метафор, пытаются прорваться в будущее, уловить и прозреть его. И часто действительно это им удается: симфонизм А. Белого, поиск в прошлом будущих перемен у Блока и Скрябина, дерзновения Хлебникова и Маяковского переплавляли случайные слова в провидения и многозвучия. Смешение разных техник, различных иностранных влияний, как своеобразный круговорот вещей и мнений. Однако в искусстве символистов эклектика не столь очевидна, многие из музыкантов выходят на национальную почву и проповедуют новую религию. Мифологическое и музыкальное выступает у них как система координат. С древнейших времен музыку сближали с философией и математикой; в древних религиозных учениях (Конфуция, Пифагора) музыка понималась как звучащий эквивалент универсальных законов мироздания, знак всеобщего миропорядка. В пифагорейской традиции, частности, развивались представления о взаимном числовом подобии гармонии космоса и гармонии звуковысотной системы, лада). Средневековое музыковедение выводило правило храмовой музыки из теологических догматов. Мыслители нового времени видели в музыке скрытое арифметическое упражнение духа, «тайное метафизическое упражнение души» (Шопенгауэр). Новалис писал, что в геометрических пропорциях заключены основные отношения природы и формула универсума. Шпенглер считал музыку высшей формой человеческого познания. Содержание мелодии или впечатление от нее трудно передать словами. Речь часто выступает не в прямых, а в переносных значениях. Музыковеды обращаются к языку психологии, философии, математики, обращая внимание на двуполярность музыки, соединяющей в себе самое чувственное и самое абстрактное. Музыка идет из глубин психофизиологических состояний человека, выраженных либо в пении, либо в игре инструментов, усиливающих мелодико-ритмическую выразительность тела человека. Но в музыке есть мысль, абстрактное мышление, обобщение. Содержание музыки неотделимо от выражающих его звуков. Но содержание музыки не денотативно в той мере, в какой денотативно вербальное высказывание или произведение неабстрактной живописи. Б. М. Гаспаров предложил определение денотата музыкального знака, он мыслил следующим образом: денотат мотива вторичен, а не первичен, как в знаках языка или других семиотиках. В эпоху символизма денотаты мотива чаще всего сводятся к разговорам о музыке, и обо всем том, что с ней может быть связано. Редко звучит какой-либо определенный мотив, но номинально работает вся музыкальная лексика, переплетаясь с тем, что самими символистами было обозначено, как мифологическое. Это издревле существо из ниоткуда, из того, откуда мы пришли и того, куда, быть может,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




