От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 56
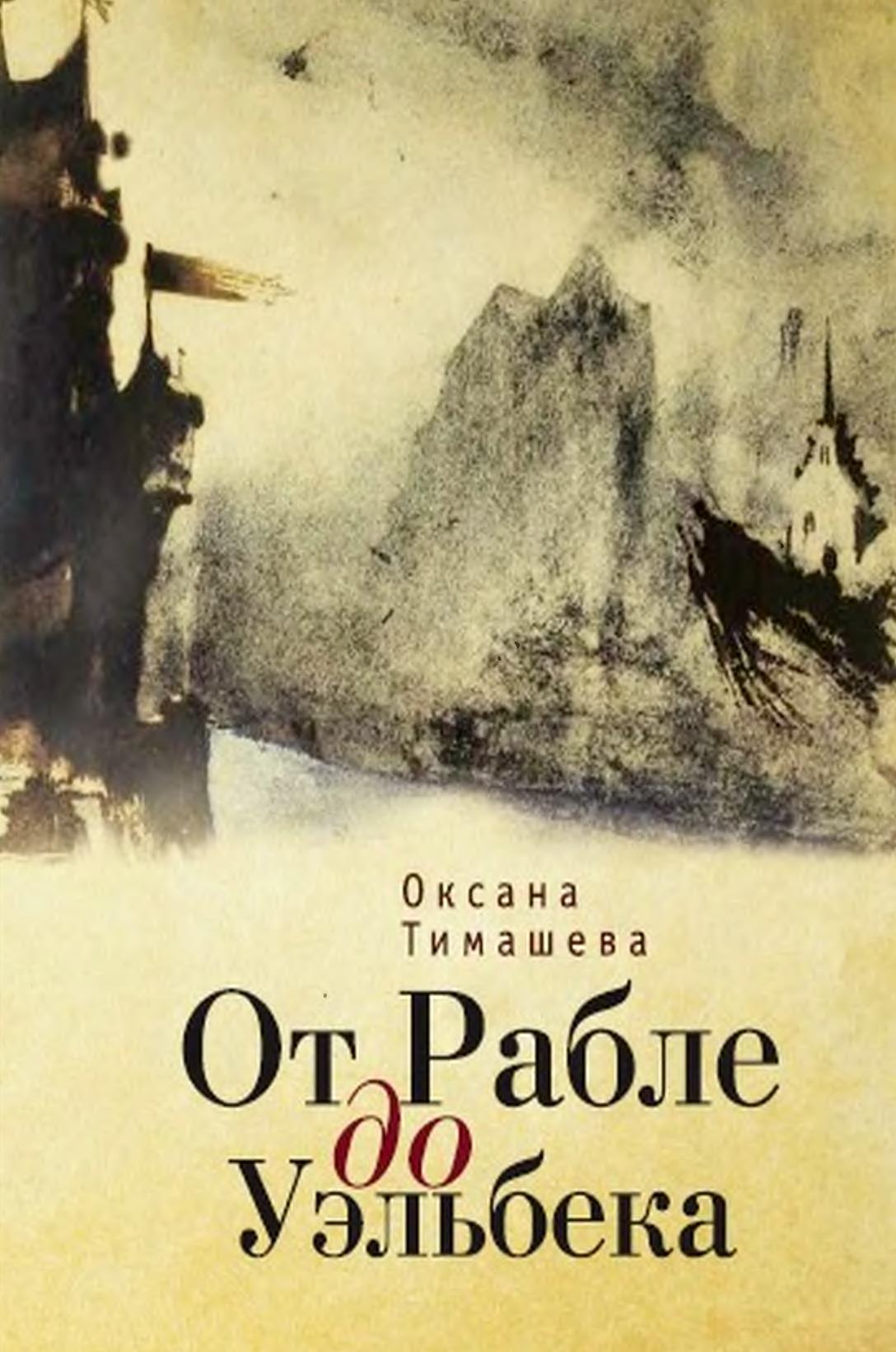
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
В тот же период, когда свои идеи высказывал А. Белый, во Франции в творчестве символистов «второй волны» (Ж. Мореас, Ст. Мерриль, Реми де Гурмон и др.) А. Жид, например, пишет: «Посреди Эдема рос Игдрасиль, дерево-логарифм; его корни, питающие жизнь, были погружены глубоко в землю, а листва отбрасывала на лужайку густую тень, являвшую собою ночь»159. Анри де Ренье заключает: «Легенды и мифы всегда были в чести у поэтов, как в прошлом, так и ныне. Оно и понятно: ведь они показывают в преображенном виде Человека и его Жизнь. Они создают идеализированную реальность, где человечество представляется таким, каким оно хотело бы себя видеть… Предпочтение, которое нынешние поэты отдают легендам и мифам, проистекает из настойчивого желания выразить символами идеи, за что их и назвали символистами»160. Любая идея возникает в своем качественном варианте лишь на базе предшествующей реализации, причем часто многовариантной. Мифотворчество было настолько органичным для эпохи символизма, что проявлялось и в строении литературного текста. Присущая как художественным произведениям, так и критическим статьям «магия слов», объясняется обращением к архетипическим схемам. «Запредельное» восприятие музыки объединяет таких поэтов, как Вяч. Иванов, Бальмонт, Блок, Белый, Мандельштам, М. Кузьмин. У каждого из поэтов свое восприятие музыки. Кто слышит «мировую музыку», «музыку сфер», кто просто музыку Вагнера, песню Изольды, цыганские напевы, фортепьяно за стеной. Волны раската мировой музыки, по мировой поверхности как некая вертикаль, звук мировой оси». Значительный пласт «мировых» музыкальных значений связан с образами музыкальных инструментов (уже упомянутых выше пианино, клавесина, флейты, мандоры, лиры, арфы), но также со «стрекалом воздуха» и звуком поворота земной оси. «Гамма чисел есть гамма струн космоса, при помощи которых познающий, — пишет А. Белый извлекает музыкальные звуки; такое число не просто количество; оно-тайна; в числах находим мы свойства музыкальной гармонии; и потому-то момент тайны, внесенный в самое математику, превращает ее в музыку, познающих превращает в орхестру (союз) связанных единой симфонией людей; симфония мира звучит в мистерии.161» Последнее означает, что в слове «симфония» соединяются разные смыслы: романтическая формула «мир как симфония» и досимфонические смыслы этого слова, просто «созвучие», «гармония». Чаяние какого-то сверхжанра (по-сегодняшнему, кроссовера) было весьма характерно для литературно-музыкального авангарда. По мысли Вяч. Иванова, новый художник должен создать симфонию, т. е. хоры коллективных существ. Коллективные существа, по мысли О. Мандельштама, должны жить «ритмично».162 Аморфный бесформенный человек, неорганизованная личность — это просто враг общества. Ритм есть орудие социального воспитания. Новое общество вообще держится солидарностью и ритмом: «Наблюдая и сравнивая школьную реформу в новой России с «Реформой школы» первого гуманистического ренессанса, бросается в глаза преодоление филологии. Тот раз филология выиграла и сделалась надолго фундаментом общего воспитания; в этот раз интересы филологии сильно пострадали, с этим никто не станет спорить. Филологическое оскудение школы, которого следует ожидать в ближайшем будущем, в значительной степени— плод сознательной школьной политики. Антифилологический характер нашей эпохи не мешает считать ее гуманистической, поскольку она возвращает нам самого человека, человека в движении, человека в пространстве и времени, ритмического, выразительного человека»163.
Это «кросс-культурное» замечание О. Мандельштама, сделанное в двадцатом году, оказалось провидческим, хотя поэт не был ни футуристом, ни футурологом. Люди искусства часто высказывали в то время утопические и антиутопические идеи, носящие характер выдумки или внутренних пожеланий, а также прозрений. Достаточно вспомнить крестьян Малевича с завязанным ртом, написанных тремя красками. Между новой культурой (движениями масс) и культурой старой, уходящей, А. Блок, например, видит трагический разрыв, преодолимый, однако с помощью музыки: «Вся усложненность ритмов стихотворных и музыкальных, к которым эпигоны гуманизма были так упорно глухи и враждебны, есть ничто иное, как музыкальная подготовка нового культурного движения, отражение тех стихийных природных ритмов, из которых сложилась увертюра открывающейся эпохи»164. Рассказывая о смерти Комиссаржевской, Врубеля и Толстого, кризисе символизма, лекциях П. Н. Милюкова, расцвете французской борьбы в петербургских цирках, успехах и неудачах авиации, убийстве Столыпина, Блок добавляет: «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один лишь смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе создают единый музыкальный напор»165.
В «Автобиографии» 1915 года, Блок не забывает рассказать о своем особенном отношении к музыке (musique), идущем с раннего детства. Музыкальные понятия и образы играют ведущую роль в определении задач, выдвигаемых искусством.166 Искусство в эпоху больших перемен получает право говорить обо всех. Если «символическое» у Блока есть мера емкости
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




