От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 55
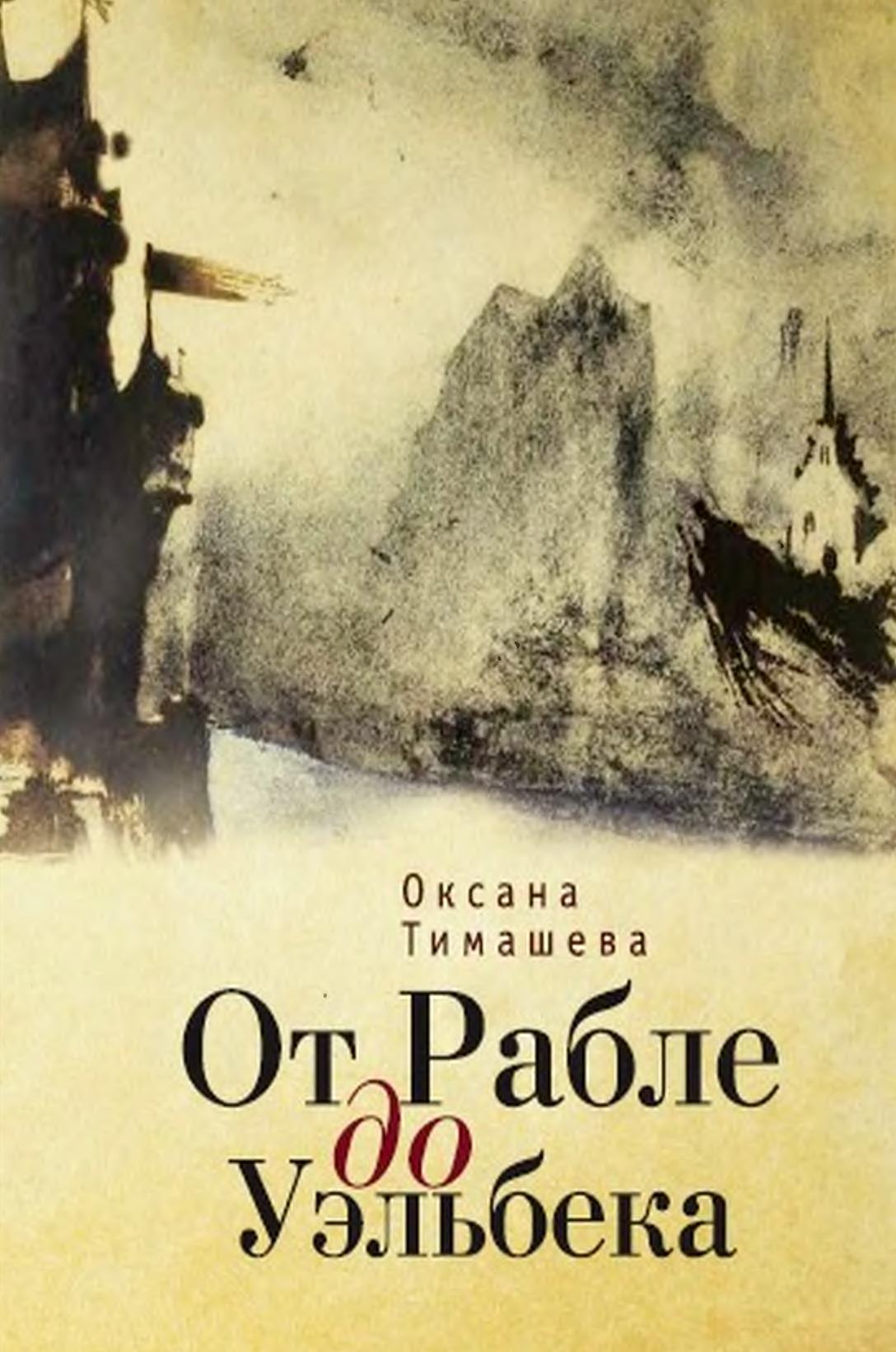
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
О существовании символистской оперы никогда не спорили, отмечая в ней преобладание литературности. Символистскую оперу определяет ориентация на писателей-символистов и их творчество. Помимо названных выше оперных произведений Дебюсси и Грига, следует упомянуть также Рихарда Штрауса, автора «Саломеи» по одноименному произведению Оскара Уайльда. Публику и при жизни Штрауса, и сегодня увлекает кровавый сюжет раннехрианского времени, насыщенная эротикой атмосфера окружающая героиню оперы— Саломею, дарящую поцелуи и исполняющую танец семи покрывал. Она требует невозможного — головы пленника Ионакана. В конце концов, Ирод приказывает убить Саломею, и на мраморные ступени падает труп красивой женщины… Напряженность оркестровой ткани, симфонизм, мрачное, сгущенное в своем музыкальном выражении действие, патологические страсти героев образуют своего рода музыкальную поэму с пением. В «Саломее» привлекает огромная выразительная сила и самобытность музыки, необузданность и яркость чувств, свойственная всей оперной классике. Испытывая прямое влияние литературы и, развиваясь, в основном, в вагнеровском
русле, опера представляет собой неопределенный жанр музыкального символизма. Очевидно поэтому в наши дни, когда композиторы берутся за сюжет из этого исторического периода у них тоже получается всегда нечто смахивающее на музыкальную поэму. Родион Щедрин из 11 сонат «У озера» написал свой балет «Чайка». Ироничный Чехов, чья драматургия испытала на себе влияние Ибсена бессознательно стремился к символическому выражению и умело сочетал пародию на крайности символистского стиля (Треплев) с прямо обозначенным символом (Заречная). Исключительно верно высказался о Чехове А. Белый: «В нем Тургенев и Толстой соприкасаются с Метерлинком и Гамсуном. В силу непосредственности творчества он одинаково примыкает и к старым, и к новым… Изысканного поклонника символизма прельстит стыдливая тонкость чеховских символов, и он с облегчением обратится к Чехову после Метерлинка. Он увидит, что эта осторожная стыдливость коренится в прозрачности его символов и что необходимое условие прозрачности — непроизвольность и непреднамеренность, то, чему имя «талант», «гений».153
Параллели между творчеством писателей и музыкантов в эпоху символизма оказываются возможными в силу общности культурной среды, органичное существование в поэзии и в музыке, способность проникать туда, где музыка и поэзия нераздельны. И русская, и зарубежная критика прямо указывают на то, что их современники читали «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше, где, казалось, исчерпавшие себя в оперных либретто греческие боги оказались важными вновь. Подчеркнуто явилась оппозиция Аполлона— Диониса. «Чтобы глубже понять оба импульса, — пишет Ф. Ницше, — представим их себе как два разъединенных художественных мира: мир сновидения и мир опьянения… сладостную неотвратимость соприкосновения со сновидениями понимали греки, воплотившие ее в своем Аполлоне… Чары Диониса не только обновляют союз человека с человеком, но и зовут природу, враждебную или порабощенную, на праздник примирения с людьми, своими блудными сыновьями»154. Призывая обратить свои взоры на первичное, на то, что было в начале мира, Ф. Ницше вспоминает любителя натуры Руссо и введшего термин «наивное» Шиллера. «Там, где мы встречаемся с «наивным» в искусстве, мы видим величайшие достижения аполлоновской культуры… Аполлон — этическое божество, требующее от тех, кто ему причастен, блюсти меру, а для этого и познавать себя. Но Аполлон не мог жить без Диониса».155 В античном поэте, — полагает Ницше, — лирик и музыкант стремятся к тождественности. Музыкальное искусство он считает повторением мира, его слепком. Лишенный отблеска и содержания отблеск исконной боли в музыке, находящий избавление в иллюзии, отбрасывает второе отражение в виде уподобления и примера. «Иными словами, лирика в той же мере зависит от духа музыки, в какой музыка от образа Воли. Музыка вообще является как воля (слово из Шопенгауэра). Произведение лирика не могут высказать что-нибудь такое, что бы ни было с широчайшей всеобщностью заложено в музыке, заставившей Ницше прибегнуть к образной речи. Язык потому не поможет нам получить исчерпывающее представление о мировой символике музыки, что она относится к исконной противоречивости и боли в глубинах первоединого начала и тем самым воплощает сферу, стоящую над и перед всяким явлением… Язык как орган и символ явлений никогда не сможет вывернуть наизнанку все глубины музыки, его связь с нею все равно останется лишь поверхностной, а к ее сокровенному смыслу нас ни на шаг не приблизит любое лирическое красноречие»156. Под непосредственным влиянием Ницше формировались и идеи Вячеслава Иванова. В его философских сочинениях следование античным представлениям было гораздо более строгим, чем в трактате-первоисточнике. Вячеслав Иванов всегда думал об обновлении искусства, и ему на помощь приходили идеи из мировой культуры. Различные виды искусств, сведенные к своим конститутивным элементам, обращаются лишь в аналитику этих элементов (красочное в живописи чисто и отвлеченно; то же и лейтмотивное в рисунке, и словесно-звуковое в поэзии). Лучшее действо в искусстве — это синкретическое действо. Частичный синкретизм — это поэзия в музыке или музыка в живописи. Одни формы искусства стремятся к распаду другие, наоборот— к синтезу, и надо иметь центральную точку отсчета. Таковой является, конечно, музыка. Она, в одном отношении, разлагает формы искусств, а в другом их питает. В искусстве, растворенном музыкой, важно содержание. К соединению в себе музыки жизни и картины звал Ницше. Слияние в человеке двух начал, дневного, образного, воображающего, сознательного с ночным, безобразным, невообразимым, бессознательным отобразилось в культуре Греции в создании трагедии. Условия для трагедии были и в культуре нового времени, где появилось символическое искусство. В нем жила роковая борьба духа с формой, предвкушение победы над роком. А. Белый размышлял о том, что «образы— эмблематическая роспись переживаний, не более. «Переживание зацветает образами… В символизме реальная связь за пределами видимости»157. Например, в пьесах Ибсена его герои «алгебраические знаки какого-то апокалиптического уравнения жизни… Символическая драма не драма, а проповедь всерастущей драмы человечества. Это проповедь роковой развязки. И лучшие образцы символической драмы надо читать, а не смотреть на сцене… Театр остается театром, и храмом не становится, разве кафедрой проповедника… Книга еще лучшая кафедра». Вячеслав Иванов и Александр Белый, конечно, наиболее интересные теоретики символизма как философии, однако понятие «русский символизм» связывают с именами К. Бальмонта, В. Брюсова, выпускавших сборники с подобным названием, переводивших французских символистов и писавших явно подражательные под французов стихи. В предисловии к третьему выпуску «Русских символистов»,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




