Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин Страница 3
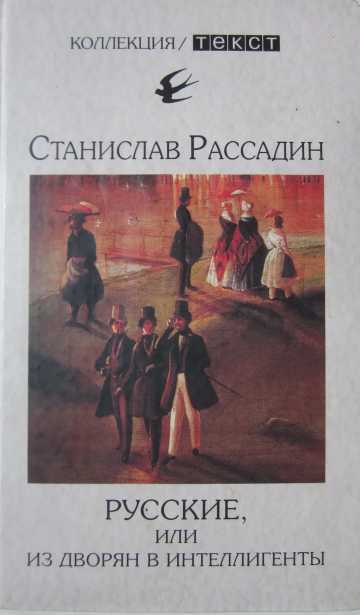
- Категория: Проза / Русская классическая проза
- Автор: Станислав Борисович Рассадин
- Страниц: 137
- Добавлено: 2025-08-24 12:01:15
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин» бесплатно полную версию:Девятнадцатый век не зря называют «золотым» веком русской литературы. Всего через два года после смерти Д. И. Фонвизина родился А. С. Грибоедов, еще через четыре года на свет появился А. С. Пушкин, еще год — Баратынский, и пошло: Тютчев, Гоголь, Герцен, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Островский, Щедрин, Лев Толстой… Завязалась непрерывная цепь российской словесности, у истоков которой стояли Державин и Фонвизин. Каждое звено этой цепи — самобытная драгоценность, вклад в сокровищницу мировой литературы. О жизни и творчестве тех, кто составил гордость нашей культуры, о становлении русской интеллигенции рассказывает известный писатель С. Б. Рассадин.
Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин читать онлайн бесплатно
Будь средь российских привычек привычка считаться с уроками прошлого, какими смешными могли б показаться себе нынешние дворянские собрания, где заматерелые красные хвастают голубой кровью. Но… Ладно, оставим это. Удивительнее другое: оказавшийся в промежутке меж двумя приговорами сословию, своим собственным и чичеринским, Пушкин не терял надежды. Напротив, лелеял ее и растил. Отвращение к временщикам, к «вовсе неизвестным фамилиям», с годами все крепнувшее (в отличие от отношения к Екатерине, в зрелости изрядно-таки помягчавшего), было тем наичернейшим фоном, на котором — по закону и оптики и психологии — все светлей и светлей вырисовывался образ тех, кто, по пушкинской мысли, только и был способен противостоять и временщикам, и самому деспотическому правлению. Естественно, образ потомственного дворянства.
Оно казалось ему единственным надежным оплотом «чести и честности», а права, гарантированные потомственностью, — возможностью наилучшим образом исполнить долг перед обществом.
«Что такое дворянство?..»
Риторический этот вопрос, заданный себе самому в предвкушении своего же ответа, — из заметок Пушкина «О дворянстве», набросанных в тридцатые годы и построенных по принципу классического катехизиса: вопрос-ответ, вопрос-ответ; за словом здесь не лазят в карман. Итак, что оно?
«Потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целию? с целию иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? люди, которые имеют время заниматься чужими делами… Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)».
Стиль — человека или целой эпохи — не умеет лгать. И стоит лишь сопоставить катехизисное простодушие Пушкина, его прозрачную ясность, это свидетельство уверенной мысли, с документом, написанным через шестьдесят лет, как… Да что толковать — вот он, документ:
«Что такое дворянин? — как ни просто это слово, как ни обычно, как ни ясно кажется каждому из нас понятие о том, что такое дворянин, — но я уверен, что каждый из нас крайне затруднился бы пред определением своего представления о том, что такое дворянин. Общее понятие, скорее чувствуемое, чем осознаваемое, слово «дворянин» является в виде неясного представления чего-то избранного, привилегированного, неодинакового со всеми остальными людьми, окружающими нас… Не тот дворянин, который носит это слово как кличку, а который по существу дворянин, в душе дворянин, т. е. благороднейший и образованнейший человек…»
«Уж не пародия ли?..» Нет, то есть — да, пародия, но невольная, и автор книги «Задачи дворянства» (1895) ничуть не повинен как стилист в этом косноязычии, которое, кажется, вовсе даже не прочь быть и оставаться косноязычием («как ни… как ни… как ни…»), — лишь бы не сказать ничего определенного. Потому что сказать — страшно.
К этому времени дворянство как единое содержательное понятие перестанет существовать, потерявши признаки, по которым только и можно судить, чем оно отличается от других сословий, понятий, явлений и отличается ли вообще. судить не прибегая к стилю беседы Чичикове с Майковым о прокуроре или председателе казенной палеты «благороднейший и образованнейший человек*. А какая прекрасная целостная утопия вставала из пушкинских волросов-ответов, словно бы доброжелательно сияюших от собственной всепонятности и неопровержимости!..
Да, прекрасная. Однако — утопия.
Желанный идеал оказывался недостижим уже потому, что Пушкин надеялся обеспечить древней гарантией потомственности те достоинства дворянства, которые были, по суждению Герцена, в значительной степени новоприобретенными или, во всяком случае, были обострены тем пробуждением общественного сознания, которое возникло после победного 12-го года. И кончилось — не сразу, не вдруг, но стало уже обречено — в год поражения, в 25-м.
Да больше того!
«Рыцарские чувства чести и личного достоинства», отвращение к искательству и холопству — те благородные свойства, которые Пушкин прозревал в потомках старых родов, — они во многом потому-то и пробуждались с такой отчетливой очевидностью, что родовые дворяне, неотвратимо отодвигаемые на второй и на третий план, теряя силу, сдавая позиции, сдавали их с вынужденным боем, ненавидели наступающих победителей, а вместе с ними — и их низменные свойства. Само чувство личного достоинства было ведь и защитным. Полемическим, можно сказать. Было эффектом фона — или контраста. Культивирование «независимости… благородства (чести вообще)» оказывалось, помимо прочего, гордым, но, увы, принужденным ответом унижаемых.
Принужденным — выходит, не совсем свободным.
В общем, светлый образ дворянства начала XIX века, вдохновенно, умно, гармонически создаваемый Пушкиным, не был порождением некоей исторической традиции боярства, будто бы отличавшегося гордостью и мятежностью, — он и своих-то прародичей всего лишь переформировал на собственный лад. И будущего этот образ не имел никакого.
Собственно говоря, у российского дворянства, строго понимая его в благороднонезависимом, в пушкинском смысле, не было истории. Был один исторический миг, промежуток — именно с 1812 по 1825 год. С момента, когда, всколыхнулось, воспрянуло горделивое самосознание, не равное, а противоположное старой боярской спеси, этой оборотной стороне холопства, и направленное не на местническое самоутверждение, а на достижение блага отечеству. И до момента, пока это самосознание (самоосознание) не получило сокрушительного удара на Сенатской и последующего ледяного опровержения своих пылких иллюзий.
Вдумаемся. Уже то, что молодой император Николай на первых допросах после 14 декабря понял, на что надо давить, что надо использовать: дворянские честь и честность, — и надавил, и использовал, подав пример будущим гениям провокации, азефам и скандраковым, — уже это сразу и окончательно похоронило пушкинскую утопию. Доказало и довершило ее утопичность…
Да, Пушкин — совсем по-фаустовски — понадеялся остановить этот миг. Впрочем, остановил, сумел, свершил несвершимое — только не в истории, а в себе самом.
Отчего-то унизительно сознавать, насколько мы зависим от всякого рода случайностей. И — бр-р! — страшновато подумать, что было бы, если б Надежде Осиповне не удалось зачать от Сергея Львовича в оный урочный час, аккурат в тот самый, что позволил их гениальному отпрыску успеть и не опоздать. Сформироваться духовно именно в тот промежуток, счастливо наполненный и драматически краткий для русского духа. Страшновато — но думаем, не отказывая себе в соблазне гадать: если бы да кабы, историками порицаемом, и, бывает, даем ответы вроде того, какой дал Михаил Гаспаров, замечательный культуролог.
«Величие Пушкина — тоже случайность?» — спросил его с подковыркой журналист, беря интервью; отметим: не «рождение», всеочевидно зависящее от случайности, а «величие», культурная роль, репутация. Что ж, тем любопытнее вышел ответ:
«Если бы у нас не случился Пушкин, то на его месте в нашем сознании стоял бы, скорее всего, Жуковский. И стоял бы с полным правом, и мы видели бы в нем много достоинств, которых сейчас небрежно не замечаем. Если бы Шекспир
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


