Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков Страница 34
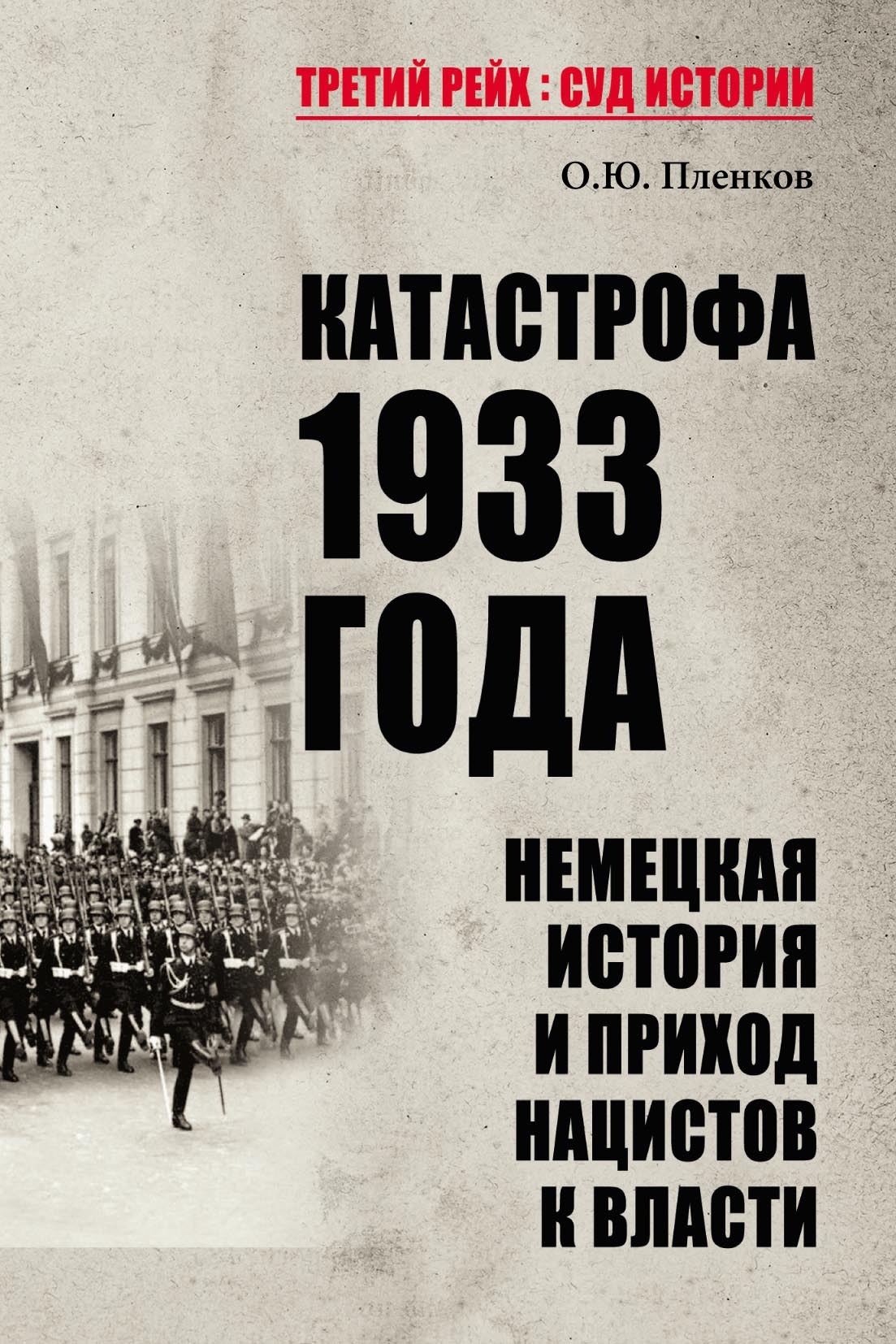
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Проза / Историческая проза
- Автор: Олег Юрьевич Пленков
- Страниц: 37
- Добавлено: 2025-09-04 11:00:58
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков» бесплатно полную версию:История нацизма до сих пор остается до конца не изученной и полной мифов, которые требуют своего опровержения. В фундаментальной книге историка О.Ю. Пленкова даются утвердительные ответы на многие вопросы истории нацизма, в том числе такие: следует ли считать нацизм немецким или антинемецким явлением, был ли он реакционным или модернистским, революционным или контрреволюционным, подавлял ли он инстинкты или развязывал их, был ли нацизм похож на коммунизм или был проявлением капитализма, были у него заказчики или нет, была ли его массовой базой мелкая буржуазия или также в значительной части рабочий класс, находился он в русле всемирно-исторических тенденций или же был восстанием против хода истории?
Книга адресована всем, кто интересуется историей XX века.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти - Олег Юрьевич Пленков читать онлайн бесплатно
Мечтательность, элегичность, возвышенность чувств являются действительно важной частью романтичности. В чрезмерных дозах романтичность, стремление драматизировать производило комическое впечатление. Гельпах иронически писал, что немецкий бюргер, если счастлив, поет: «Я не знаю, что это значит, что сегодня печален я так»; если он хорошо выспался и находится в прекрасном расположении духа, прислушиваясь к лепету своего любимого ребенка, то напевает: «Зорька, зорька, светишь ты к участи горькой…»[225]
Генрих Гейне сатирическим образом изображал немецкую сентиментальность: «У меня мирные намерения. Я хотел, чтобы у меня было следующее: скромный домик, но удобная постель, хорошая еда – свежее молоко и масло, перед окнами цветы, перед домом несколько красивых деревьев, и уж если Господь Бог хочет сделать меня совершенно счастливым, то пусть порадует меня тем, что на этих деревьях будет повешено 6–7 моих врагов. Перед смертью я им простил бы с великим удовольствием все, что они мне причинили. Врагов надо прощать, но не прежде, чем они будут отданы в руки палачу»[226].
Это кажется парадоксальным, но известный немецкий публицист Арнольд Руге в свое время писал, что «истоки романтичности, мечтательности находятся в земных страданиях человека, и чем романтичней, элегичней народ, тем более тяжело его настоящее положение»[227]. В свою очередь, романтичность связана с впечатлительностью, в этой связи интересно свидетельство одного из нацистских главарей Альфреда Розенберга: «Своеобразие политического развития Германии заключается в том, что у нас пустые политические лозунги, иллюзии и политическая демагогия играют значительно большую роль, чем у других народов». В самом деле, нацисты весьма ловко использовали романтику авторитарного, которая влекла за собой искомое безусловное подчинение; Гитлер смог сделать для себя полезной самую восприимчивую слабость немецкого национального характера. Прискорбно, но, как писал Гельпах, «истинная трагедия немецкого народа заключалась в том, что одно из самых человечных, трогательных, полноценных свойств его национального характера – романтизм использовалось только для разрушения и производило впечатление варварского»[228].
Все эти черты национального характера после «землетрясения», произведенного Бисмарком в 1871 г. (объединение Германии), сразу получили новые качества, стали рассматриваться совершенно под другим углом зрения, и производили они абсолютно противоположное впечатление: то, что ранее считалось и было безобидным, сразу приобрело зловещие черты. Поэтому слова Чарльза Диккенса, умершего 9 июня 1870 г., о его восхищении и обожании Германии, о высоких духовных качествах немцев и о богоизбранности немецкого народа в начале ХХ в. уже воспринимались совсем иначе, чем в эпоху «бидермайера». Наиболее значимым и чреватым тяжелыми последствиями в этих переменах было то, что немецкий характер, немецкий путь стали рассматриваться обыкновенно как не западные, даже антизападные по своей сути. Эта тенденция в перспективе оказалась очень опасной, ибо на ее основании строили свои опасные теоретические конструкции правые националистические течения в Германии; из этой же интерпретации национальной идеи исходили в свое время и национал-социалисты. Любопытно, что на «особое» положение Германии в Европе довольно рано обратил внимание Ф. М. Достоевский, отличавшийся, как известно, весьма критическим отношением к западной демократии, парламентаризму, в целом к духовному строю Запада. Достоевский многократно в своих политических заметках обращался к нежеланию Германии слиться с Западом, ее противоположности с ним, противостояние Германии и Запада всячески подчеркивалось великим писателем, он даже высказывал предположение, что в будущем Германия в силу своего антизападного аффекта поведет весь остальной мир за собой, прочь от западного пути. Подобные по отношению к Западу высказывания и «почвенничество» Федора Михайловича сделали его весьма желательным мыслителем в среде германской правой, особенно в период Веймарской республики. Даже нацисты не видели ничего противоестественного в поклонении Достоевскому, «почвенничество» последнего они принимали почти без изъятия (правда, только до 1933 г.), для них был важен не исторический контекст, не то, что было, а то, что в его творчестве совпадало с их собственными представлениями.
Интересно отметить, что немцы в вопросе обоснования «почвенничества» и антизападного аффекта выступали в роли стороны, заимствующей идеи, ибо все основные теоретические конструкции, подводящие базу под различного рода националистические толкования истории, были разработаны в последние десятилетия XIX в. в славянофильских кружках Петербурга и Москвы.
Любопытно отметить, что «антизападный аффект» немцев подкреплялся и серьезным антипапизмом, антикатолицизмом, который не так заметен у православных, поскольку не особенно актуален. Один из теоретиков немецкой «консервативной революции» Карл Шмитт справедливо указывал в своей работе «Католицизм и политическая форма», что существовал антиримский аффект. Им питалась борьба против папизма, иезуитов, клерикализма. Эта борьба шла несколько веков европейской истории с огромными затратами религиозной и политической энергии. Целые поколения благочестивых протестантов и православных христиан видели в Риме Антихриста. Мифологическая сила этого образа была глубже и мощнее любого экономического расчета. Он еще долго действовал у Гладстона, Бисмарка. На всех ступенях и во всех градациях всегда остается страх перед непостижимой политической силой римского католицизма. Протестантов особенно убивало то, что чудовищных размеров иерархический аппарат, управляющий религиозной жизнью и людьми, направляется людьми, которые отказываются иметь семью, то есть целибатной бюрократией. Для протестанта, преданного семье и питающего отвращение ко всякому бюрократическому контролю, это был настоящий кошмар[229]. Шмитт писал, что католическая политика – это сплошной оппортунизм на протяжении всего XIX в. Ее эластичность действительно удивительна. Она присоединяется к противоположным течениям и группам: она оказывается то спутницей абсолютистов и монархистов, а в других странах требует свободы слова и школьного обучения; она в европейских монархиях умудряется проповедовать союз трона и алтаря, а в крестьянских демократиях швейцарских кантонов или в США выступает за демократию. Вместе с каждой сменой политической ситуации меняются, по-видимости, и все принципы – кроме одного: власти католицизма. «Требуют у своих противников всех свобод во имя их собственных принципов, но отказывают противникам в любых свободах – во имя своих, католических принципов»[230]. Бедность, нужда и преследования гнали католических переселенцев, но их не оставляла тоска по родине. Сравнительно с католиками гонимые пуритане и гугеноты имели силу и гордость почти нечеловеческую. Они способны жить на любой почве. Они повсюду могут возводить свою промышленность, сделать всякую почву полем своего профессионального труда и своей «мирской аскезы», в любом месте устроить свой комфортабельный дом. Поскольку протестант делает себя господином природы, он возлагает на себя свое ярмо. Господство такого рода совершенно чуждо католикам. Римско-католические народы любят свою почву, землю-матушку, у всех у них есть свой «terrisme» (почвенничество)[231].
Самым «неприятным» для исторического анализа и определенных выводов качеством категории «национальный характер» является ее изменчивость – с ней нельзя обращаться так, как обращаются с прочими историческими категориями, относительно
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




