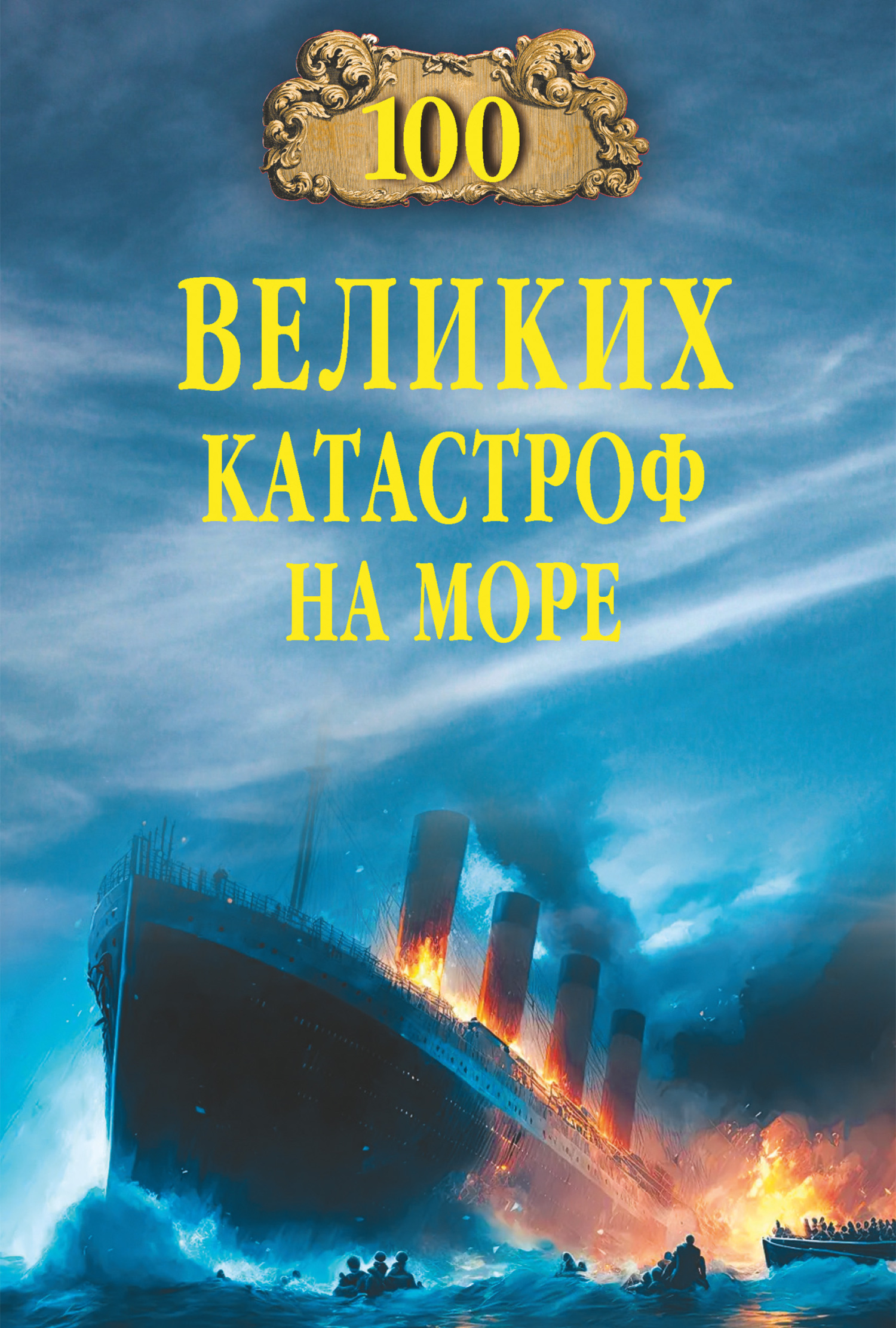Умирающие и воскресающие боги - Евгений Викторович Старшов Страница 17
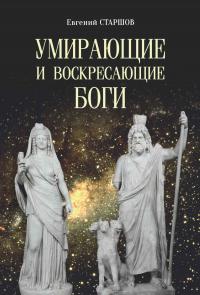
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Евгений Викторович Старшов
- Страниц: 24
- Добавлено: 2025-08-27 06:04:07
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Умирающие и воскресающие боги - Евгений Викторович Старшов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Умирающие и воскресающие боги - Евгений Викторович Старшов» бесплатно полную версию:Идея умирающего и воскресающего бога стара как мир. Ну или почти. Она ведет свои истоки, по крайней мере, с той самой поры, как древний человек, добыв мамонта и удовлетворив ряд насущных потребностей, сытый и уставший, предался размышлениям, глядя на природу. Волей-неволей в процессе размышления над тем, что все «хорошо весьма», он не мог не сделать страшный и довольно нелицеприятный для себя вывод: окружающий мир в меру постоянен, изменяясь циклически, а вот он-то сам, думающий… Несчастья, войны, старость и смерть уносят всех. Круговорот явлений природы и элементарный страх выпасть из него – такова основа идеи смерти и воскрешения…
Умирающие и воскресающие боги - Евгений Викторович Старшов читать онлайн бесплатно
Святой Онуфрий Великий. Икона
И это тоже Осирис! И не только из-за имени. Читатель помнит, что Осирис был отождествляем с богом Нила Хапи? Так вот Хапи, будучи мужчиной, имел преизрядный живот и большую висячую женскую грудь – как явный показатель того, что Нил щедро питает все сущее. Так что можно сказать, что в образе св. Онуфрия в очередной раз, хотя и несколько причудливым образом, воскрес Осирис. Но довольно о нем.
Глава 2
Божества Междуречья и Финикии: Таммуз, Инанна, Балаат-Гебал, Ваал и Мардук
После Египта, как правило, принято обращаться к Междуречью. Не будем нарушать традиции и мы. Здесь и в соседней Финикии нас ожидает целая галерея умирающих и воскресающих божеств обоего пола. Наш следующий герой – вавилонский Таммуз (он же шумерский Думуз, Думузи), «истинный сын водной бездны», возлюбленный богини Иштар (Астарты) и по совместительству ее же сын. То, что было вполне приемлемым для Востока, всегда шокировало древних греков и постоянно фиксировалось в их литературе вплоть до византийских времен. Агафий Миринейский (536–582 гг. н. э.), например, описывал злоключения афинских философов-язычников, которые, после прикрытия их академии Юстинианом в 529 г. н. э., подались в Персию, но не смогли прижиться из-за царивших там деспотизма и разложения нравов: «Там все они скоро увидели, что начальствующие лица слишком горды, непомерно напыщенны, почувствовали к ним отвращение и порицали их. Затем увидели много воров и грабителей, из которых одних ловили, другие скрывались. Творились и всякие другие беззакония. Богатые притесняли убогих. В отношениях друг с другом [персы] обычно были жестоки и бесчеловечны, и, что бессмысленнее всего, они не воздерживались от прелюбодеяний, хотя позволено каждому иметь сколько угодно жен, и они действительно их имеют. По всем этим причинам философы были недовольны и винили себя за переселение. Когда же переговорили с царем, то и тут обманулись в надежде, найдя человека, кичившегося знаниями философии, но о возвышенном ничего не слышавшего… Не перенеся неистовств кровосмесительных связей, они вернулись как можно скорее, хотя он их почитал и приглашал остаться. Они же считали, что для них будет лучше, вступив в римские пределы немедленно, если так случится, умереть, чем [оставаясь там] удостоиться величайших почестей… (Они решили, что персы несут наказание и мучение оставаться непогребенными и по заслугам быть растерзанными собаками за невоздержанность по отношению к матерям» («О царствовании Юстиниана», II, 30, 31). В древневосточных монархиях нередко бывало, что, когда умирал царь, его вдова, чтобы оставаться у власти, выходила замуж за их сына (нечто подобное рассказывали о знаменитой Семирамиде); точно так же супруг-консорт, если не хотел терять власть после смерти царицы, женился на их дочери и продолжал править.
Относительно устоявшийся миф об Иштаре и Таммузе тоже является плодом реконструкции на основании отдельных фрагментов, упоминаний и т. д., основополагающим при этом служит произведение «Нисхождение Иштар». Предыстория такова: богиня земли Иштар вступила в преступную связь с богом водной стихии Эа, родила ребенка и, чтобы скрыть свой позор, положила младенца в тростниковую корзинку и отправила плыть по реке. Корзинкой овладевает Эрешкигаль – владычица Подземного царства, сестра Иштар. Читатель, более-менее знакомый с ветхозаветной историей, не может не отметить сходства данной истории с историей Моисея (его имя дословно и означает – «Из воды взятый»), также приплывшего в просмоленной тростниковой корзинке к дочери фараона, и это неслучайно, поскольку древний Моисей (совсем древний, когда у евреев еще было многобожие) был ни чем иным, как божеством воды, ведь большая часть библейских сюжетов, связанная с ним, – именно «водяные»: обращение в Египте воды в кровь, проход евреев по дну Красного моря, истечение воды из скалы и т. д. Обратите внимание на значение имени Таммуза – «истинный сын водной бездны» (стихии). Заодно не преминем отметить чисто христианский взгляд на то, что Моисей – прообраз Христа, а его крещение во Иордане истолковывается как смерть, погружение «в гроб водостланый». Как писал св. Василий Великий (330–379 гг. н. э.), архиепископ Кесарии Каппадокийской: «Вода изображает собою смерть, принимая тело как бы во гроб, а Дух сообщает животворящую силу, обновляя души наши из греховной мертвенности в первоначальную жизнь» («О Духе Святом», 15). Так что, фигурально выражясь, это водная смерть ради грядущего людского воскрешения. Отсюда вновь переход к двум другим вариантам легенды о Таммузе, когда его то топили, то бросали в колодец (опять же в преисподнюю). Этим она живо напоминает ветхозаветную историю патриарха Иосифа, преданного и проданного своими братьями: он, как и Моисей, в христианстве также служит прообразом Христа; более того, данное ему фараоном за заслуги перед Египетским государством имя – Цафнаф-панеах (Быт. 41:45) – переводится как «Спаситель мира»; кого заинтересовал этот вопрос, отсылаем к капитальному труду митрополита Филарета (Дроздова) «Записки на книгу Бытия», в III части которой он долго и показательно рассуждает по данному вопросу, приводя многочисленные параллели. Вряд ли он догадывался, что сравнивает Христа с Таммузом, а если и догадывался – благоразумно молчал. Такой это был человек: выступал то за сохранение крепостного права, то, с изменением правительственного ветра, за его отмену; сам пребывал при власть предержащих, обменивался стихотворными посланиями с А.С. Пушкиным, и цинично говорил, что верил бы не только в то, что кит проглотил пророка Иону, но и в то, что Иона проглотил кита, если б так было написано в Библии. С такими, как он, спорил Л.Н. Толстой: «“Что, разве мы не правы? Надо же держать народ в обмане: посмотри-ка, как он неразвит и дик!” Нет, неразвит и дик он потому, что он грубо обманут. И потому прежде всего перестаньте грубо обманывать его». Но обратимся, собственно, к сочинению Филарета:
Нахождение Моисея. Художник Л. Альма-Тадема
«В приключениях Иосифа есть такие сходства с состоянием уничижения и прославления Иисуса Христа, что многие принимают их за образ этих состояний. Иосиф первенец Рахили возлюбленной; Иисус первенец Марии благодатной (Лук. 1: 28).
Иосиф,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.