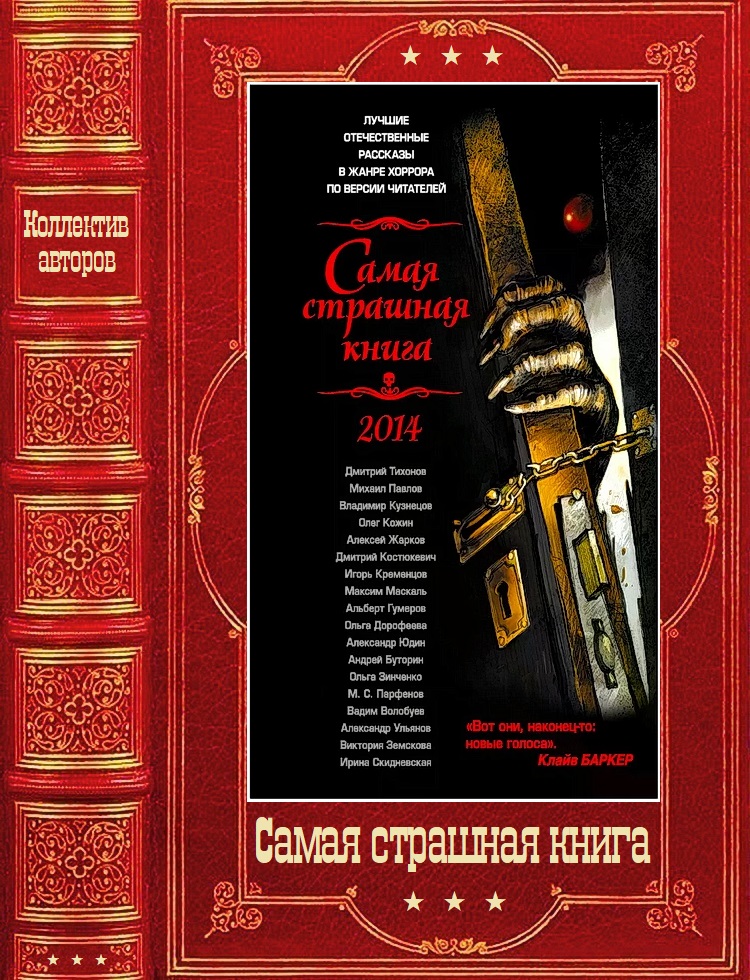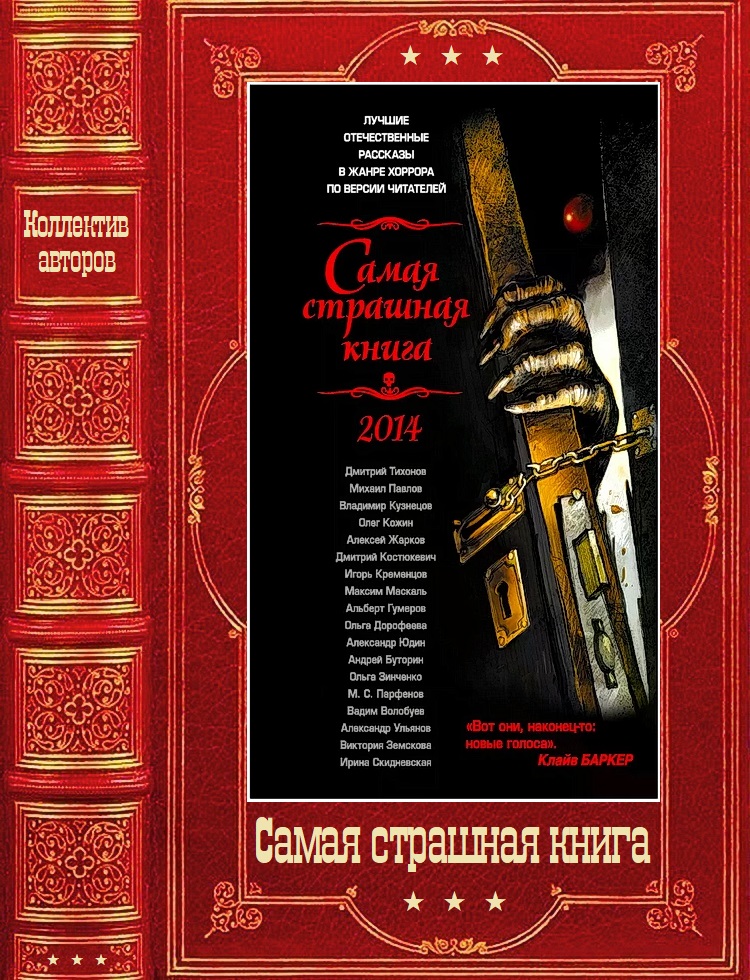Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри - Хайс Кесслер Страница 8
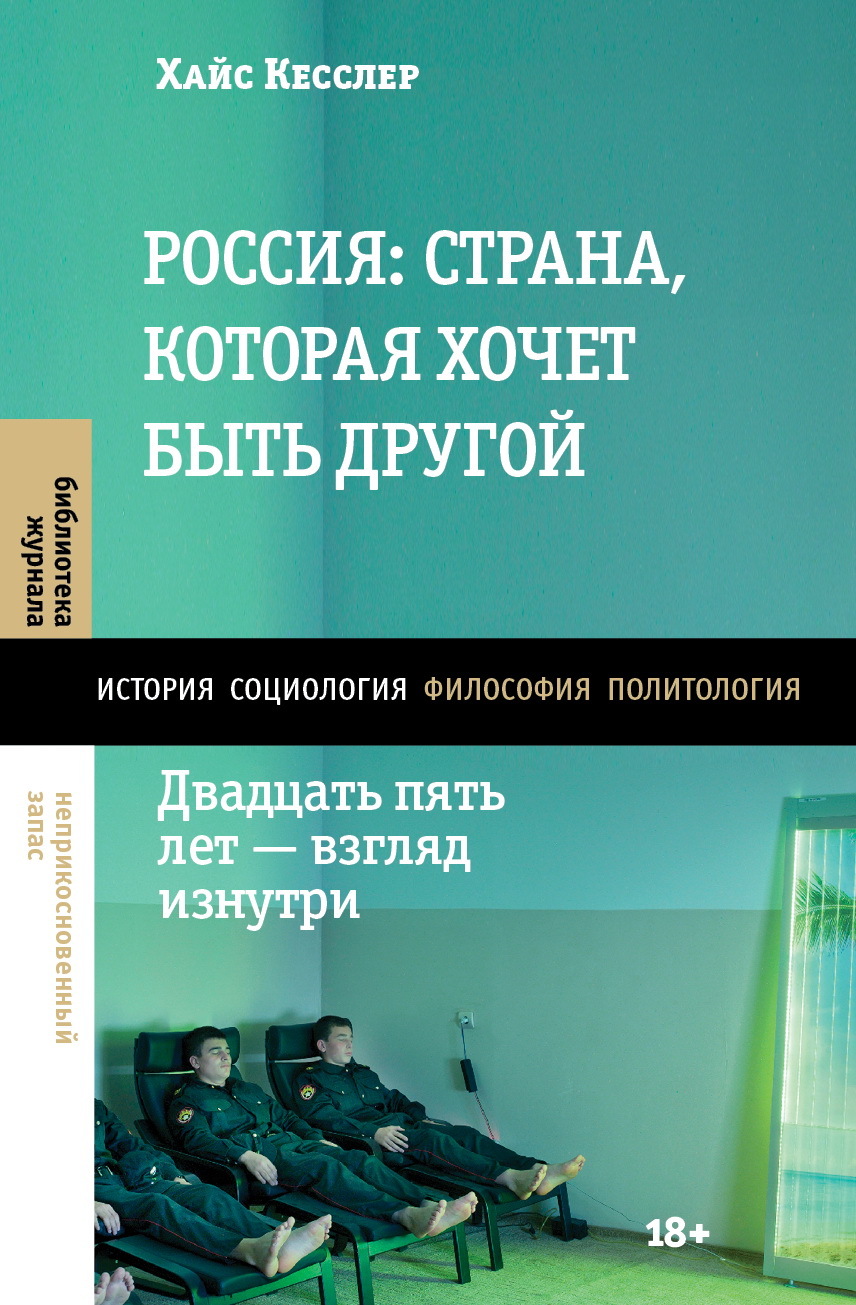
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Политика
- Автор: Хайс Кесслер
- Страниц: 11
- Добавлено: 2025-09-06 03:01:49
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри - Хайс Кесслер краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри - Хайс Кесслер» бесплатно полную версию:Тридцать лет назад, после распада Советского Союза, Россия устремилась к будущему, надеясь стать страной, открытой миру, с рыночной экономикой и демократией. Но многие из этих надежд так и не реализовались. Почему тридцать лет перемен не принесли россиянам того, что они ожидали? Историк Хайс Кесслер ищет ответ, опираясь на собственный опыт жизни в России: он впервые приехал в страну в 1991 году, нашел здесь друзей и стал свидетелем эпохи надежд и перемен. Встретив в Москве свою любовь, он прожил в столице двадцать пять лет, наблюдая становление и развитие нового государства. Эта книга – личный и честный рассказ о жизни в России, стране, которая стремится стать другой, но остается самой собой.
Россия: страна, которая хочет быть другой. Двадцать пять лет – взгляд изнутри - Хайс Кесслер читать онлайн бесплатно
Феномен дедовщины восходил к советской эпохе, но теперь получил просто беспрецедентные масштабы. Несколько вопиющих случаев дедовщины стали известны и потрясли общество. Например, случай Андрея Сичова, деревенского парня с Урала, служившего в танковом полку под Челябинском. Пьяный сержант заставлял его часами сидеть на корточках и пинал его тяжелыми сапогами повсюду, куда мог попасть. Бил так сильно, что у парня появились переломы, затем гангрена, в результате он потерял обе ноги. Были случаи, когда во время суровых морозов призывники должны были часами стоять на улице по стойке смирно. Некоторые из них получали обморожения. Но, кроме этого, могли быть и тяжелые психические травмы – следствие унижений, издевательств и запугиваний. Обеспокоенные матери солдат, объединясь в сообщества, пытались надавить на власть и таким образом побудить ее найти решение проблемы. «Комитеты солдатских матерей» пытались держать руку на пульсе и для этого сами отправлялись в армейские части, куда определили их сыновей.
Страх перед дедовщиной заставлял большинство ребят при малейшей возможности пытаться уклониться от службы. Учеба в вузе была наилучшим вариантом: пока ты учился, тебе давали отсрочку от службы, и, если учебу удавалось растянуть на достаточно долгий срок, ты достигал непризывного возраста. Если были деньги, ты мог подкупить медкомиссию и получить справку о непригодности к службе по психическому или физическому заболеванию, пройдя фальшивую госпитализацию. Или без нее, в зависимости от суммы, которой ты мог располагать. Но тем, у кого не было таких денег и не было возможности учиться в вузе, выхода не оставалось. Чаще всего это были менее изобретательные ребята победнее из сельской местности или из провинции. Это обстоятельство увеличивало риски дедовщины для «избалованных городских» и в первую очередь для выходцев из привилегированной Москвы, если они все же попадали в армию. Мой друг Алеша, тонкий парень, склонный к меланхолии, однажды сказал мне без тени свойственной ему иронии, что он любой ценой должен избежать военной службы, иначе он «там» просто не выживет.
Ужасы дедовщины и страх перед воинской повинностью были симптомами болезненного состояния общества в те годы. В обществе царила жестокость по принципу «человек человеку волк», а «старое» и «новое» находились на диаметрально противоположных позициях. Определяющим для разницы между «старым» и «новым» было отношение к процессу перемен, происходящих в стране. Это был аршин, который можно было прикладывать к людям, подразделяя их на «своих» и «чужих». Такой предварительный отбор позволял определить, насколько вам следует быть осторожным с этим человеком и можно ли быть с ним откровенным и открыто демонстрировать свои предпочтения и воззрения. Ведь от этого многое зависело.
Это были годы, когда моих друзей, бывало, били на улице из-за их длинных волос, очков или стиля одежды. Еще в конце 1980-х годов в пригородах Москвы появились группы уличных хулиганов, охотившихся на хиппи и вообще на тех, кто не вписывался в их картину мира. Подобные группировки узнавали по коротко стриженным волосам, иногда и по кожаным курткам, но настоящей субкультурой, с характерной для нее формой одежды, они не были. В те годы сплошного дефицита с ассортиментом потребительских товаров, состоявшим в основном из дешевой функциональной китайской и иногда турецкой одежды, найти индивидуальный стиль было делом нелегким. Большинство людей просто носили то, что могли купить на рынках, и стригли волосы по моде парикмахера за углом. Тот, кто выглядел иначе, мог нарваться на кулаки.
Разделительная черта, существовавшая между «старым» и «новым», проходила также между богатством и бедностью. Советский Союз был чрезвычайно эгалитарным обществом, практически без ощутимых классовых различий. Но введение рыночной экономики привело к тому, что часть людей стала зарабатывать в разы больше других. Те, кто пошел работать в один из новых секторов, таких как реклама, импорт-экспорт или банковская система, зарабатывали столько, что могли себе позволить то, о чем другие лишь мечтали. Среди моих друзей я тоже видел растущую разницу в благосостоянии.
Это новое материальное благополучие вызывало зависть и способствовало росту противоречий в обществе. То, что для одного казалось «достижением», вызывало отчуждение и напряженность у другого. Люди, не принимавшие участия в новой экономике, не имеющие соответствующих доходов, чувствовали себя неуютно среди тех, кто все это имел. В барах, ресторанах и кафе, излюбленных местах представителей новой эпохи, пожилые, например, практически не появлялись. Это объяснялось не столько отсутствием денег, сколько неприятием откровенной демонстрации богатства и шокирующими ценами, казавшимися старшему поколению невообразимыми. Я помню, какими напряженными выглядели родители, которых гордые своими финансовыми успехами дети пригласили в дорогой ресторан, – им было явно не по себе, и в ресторане они чувствовали себя не в своей тарелке. Такой дискомфорт могли испытывать и те, кто внезапно стал зарабатывать очень большие деньги. Иногда казалось, что от этого они лишь еще более нарочито сорят деньгами, надеясь убедить окружающих в своем равнодушии к материальным благам.
Россия девяностых представляла собой глубоко расколотое общество, в котором царили зависть, страх и душевный дискомфорт. В то же время это общество не было строго сегрегированным, что всякий раз снова и снова разжигало эту зависть, страх и дискомфорт. Богатые жили рядом с бедными на той же улице; одноклассники, компании друзей и семьи разделялись на социальные и культурные группы линиями разломов, возникшими в результате общественных изменений. Это означало, что жить, не пересекаясь, – непростая задача, поэтому возникала необходимость постоянно «столбить» свою позицию в социуме.
Характерным для того времени был случай на перроне Белорусского вокзала, с которого я отправлялся домой в Нидерланды летом 1992 года. Незадолго до этого я вернулся из экспедиции, куда ездил с группой друзей, студентов-историков, разыскивающих останки пропавших без вести жертв Великой Отечественной войны в бескрайних лесах, окружающих Москву. Это были ребята, отслужившие армию, испытывавшие теплые чувства к Советскому Союзу. Они пришли на вокзал проводить меня, и перед отходом поезда мы докуривали последнюю сигарету. Внезапно на перроне появилась Таня, журналистка еженедельника Moscow News, флагмана перестройки и реформ. Я познакомился с ней
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.