От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 82
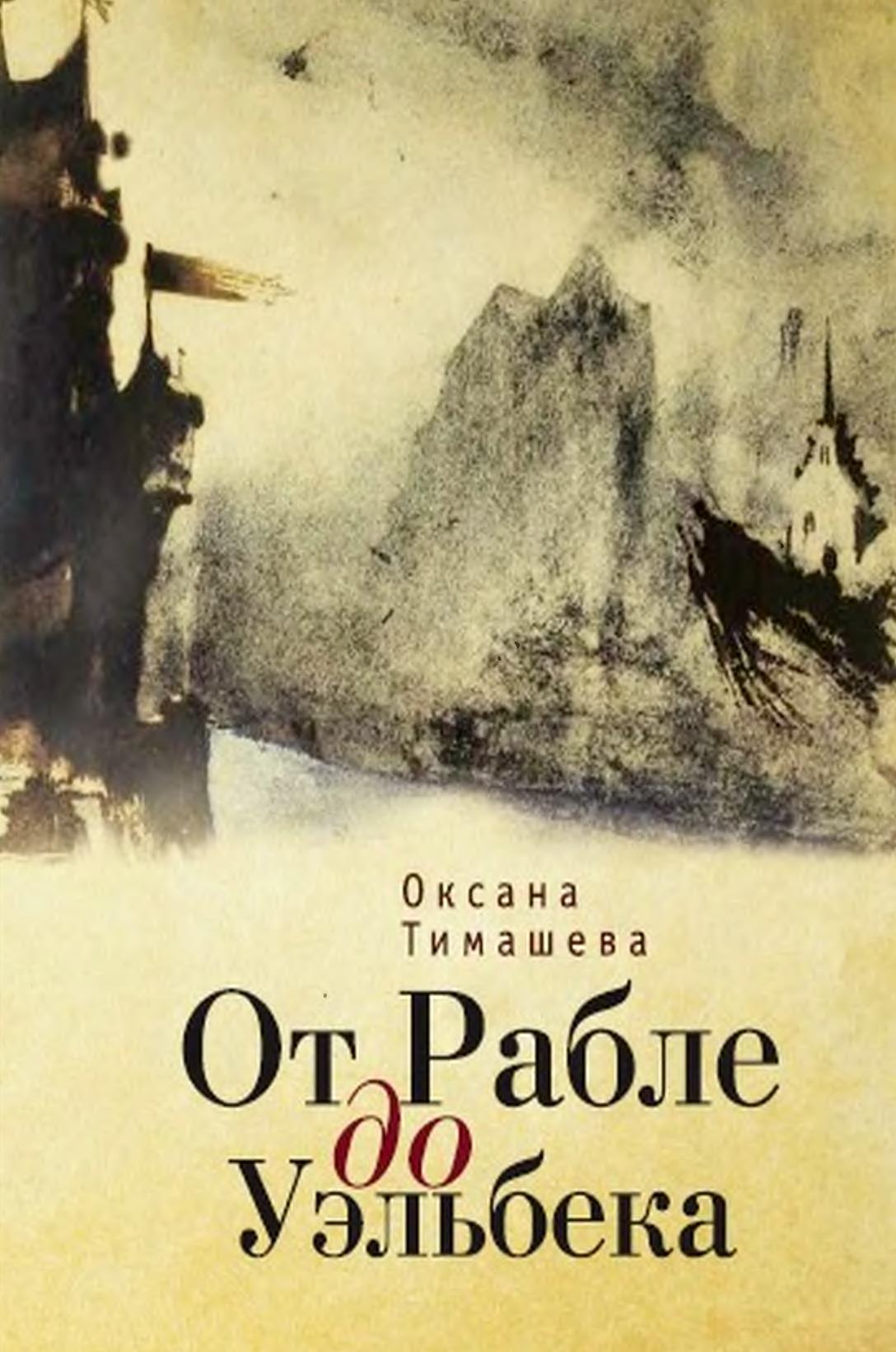
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
Религиозные мыслители (бр. Трубецкие и др.)212 справедливо указывают на то, что при светском обращении к Евангелию, как в иконах, работает закон обратной перспективы. В художественных сочинениях мы видим референтную картину, высвечивающую самого автора. Образно говоря, в луче прожектора, тенью мечется беспокойное сердце художника. Речь идет в таких случаях не об уточнении и живописании того, что зафиксировано в скрижалях, а в видении себя самого на фоне незыблемого. «Возвращение блудного сына» Андре Жида как нельзя лучше это подтверждает. Сам художник чувствует свое место. Неслучайно он, обращаясь к читателю, просит представить его как жертвователя в углу картины. (Такое было принято и распространено у фламандцев в эпоху Возрождения.) Сын убежденного протестанта и недавней еще католички, он признается в любви к иконам, старинным триптихам, навеявшим ему идею рассказа о покаянии блудного сына. И если бы здесь не была автором специально развернута идея триптиха, то этот текст можно было принять за не совсем обычную проповедь. Однако А. Жид, увлеченный театром, пишущий одновременно драматические диалоги, имитирующие классицистов, драматизирует сюжет возвращения блудного сына и раскладывает его на «голоса». Мы слышим и самого блудного сына, настоящее раскаянье которого еще впереди, он наг и нищ, единственная его заслуга в том, что он вернулся к себе домой. Мы слышим голос его отца, который убежден, что для сына «вне дома нет спасения», мы слышим выговор старшего брата, считающего, что его родственника погубила распущенность и гордыня. «Держи, что имеешь, — цитирует он библию, — дабы никто не восхитил венца твоего». К матери блудный сын приникает со смирением: «Твои молитвы вынудили мое возвращение». Ей одной поверяет он причину ухода из родного дома: «Я искал, кто я такой». А младший брат ему заявляет: «Брат, я тот, кем ты был, уходя». Читатель понимает, что устами всех героев трактата «Возвращение блудного сына», — говорит сам Андре Жид, которому памятны слова Уайльда: «В искусстве нет места для первого лица».213 Если жизнь гармонична и нравственна, хотя, быть может, полна катаклизмов, на сцене появляются маски, и наоборот, лицемерие в обыденной жизни требует ясной правды на сцене. Эта ясная правда может быть полифоничной, многоголосой. Может быть и не стоит специально называть этот трактат христианским, достаточно того, что в нем есть христианское начало. Дело здесь обстоит также, как с пьесами Расина («Полиевкт»), где только намечена борьба двух начал и лишь намеком дана победа одного из них. Так ли интересно, как «Ад» читать «Рай» в «Божественной комедии» Данте или вторую часть «Фауста»?
Пьеса «Саул» была написана в 1896 году, когда писателю было 26 лет. В ней видно, насколько глубоко в авторские мысли проникают яркие библейские образы, тревожащие воображение многих писателей. Например, в России в те же годы будущий автор «Царя Иудейского» (1894), К. Р. пишет стихотворения «Библейские песни», и, в частности, «Псалмопевец Давид» и «Царь Саул»214 (1881), где эти два персонажа появляются, хотя и коротко, но точно обрисованные. Бесконечно предан царю псалмопевец Давид, уныл и мрачен Саул, которого гнетут объятья злого духа: «И страшные вновь изрыгают проклятья / уста мои вместо молитвы святой». То, что К. Р. передает в четырех четверостишиях, Андре Жид выписывает подробно, подражая христианским пьесам Расина, но одновременно Шекспиру, высокое трагедийное звучание которого для французского писателя, как камертон. Андре Жид, большой поклонник и знаток русской литературы, конечно, не мог знать стихов К. Р., ни даже «Бесов» Пушкина, зато он знал наверняка оперу Мусоргского «Борис Годунов» и ее либретто, а также, еще лучше, он знал «Макбета» Шекспира. На манер шекспировских трех ведьм он рисует шестерых бесенят, преследующих царя Саула. Каждый из них имеет свое назначение и преследует царя в одной из символически обозначенных автором его ипостасей: кубок (гнев и безумие); ложе (сластолюбие); престол (сомнения); скипетр (господство); порфира (тщеславие); легион (воинская слава). Они гротескны, в них ужасное переплетено с комическим, «эти ребята, эти малютки, замерзающие мальчуганы»— голоса и подголоски измученного бессонницей и видениями из-за бесполезных или просто убийств Саула, абсолютно земного человека, вынужденного держать скипетр и носить корону, из-за которых, в сущности, он теряет рассудок. Хилый и болезненный сын Саула Ионафан, только примеряя багряную порфиру и другие атрибуты царской власти, сразу же сгибается под их тяжестью и бежит. Зато сильный и смелый Давид прекрасно себя чувствует в царском облачении, хотя поначалу сторонится его, понимая, что это источник зла.
В начале пьесы мы застаем Саула в тот момент, когда он, обеспокоенный будущим, решил уничтожить у себя в стране всех магов, всех волшебников, предсказывающих будущее, поскольку он сам хочет быть единственным его владельцем. Возможно ли это? Устами бесенят мы слышим ответ на вопрос «Какое из будущих наиболее сокровенно? — То, которому никогда не дано осуществиться». Из страха за свое господство Саул расправляется с женщинами. По его приказу убита царица, пытавшаяся вместе со священником владеть мыслями и поведением царя. Самостоятельно он убивает «последнее бдящее око над Израилем» — Аэндорскую волшебницу, устроившую ему встречу с его предком Самуилом. Из прошлого этот последний рассказывает ему о будущем: «Через три дня филистимляне дадут тебе сражение, и цвет Израиля погибнет. Смотри царский венец уже не на твоей голове», заявляет ему тень Самуила.1 Это предсказание быстро сбывается, но автор пьесы оттягивает героический финал с восхождением на трон царя Давида и пишет безумие Саула, его блуждания по пустыне, измену слуг, восторженной толпы, еще вчера, казалось, так ему преданной. В драной порфире, превратившейся в рубище, бродит царь по безводной песчаной равнине, продирается сквозь кустарники и лианы, прячется в пещере, как он говорит, «гоняясь за своими ослицами». Поневоле напрашивается сопоставление Саула А. Жида с королем Лиром. В пьесе есть свой фигаро— Брадобрей, следящий, выражаясь современным языком за имиджем
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




