От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 52
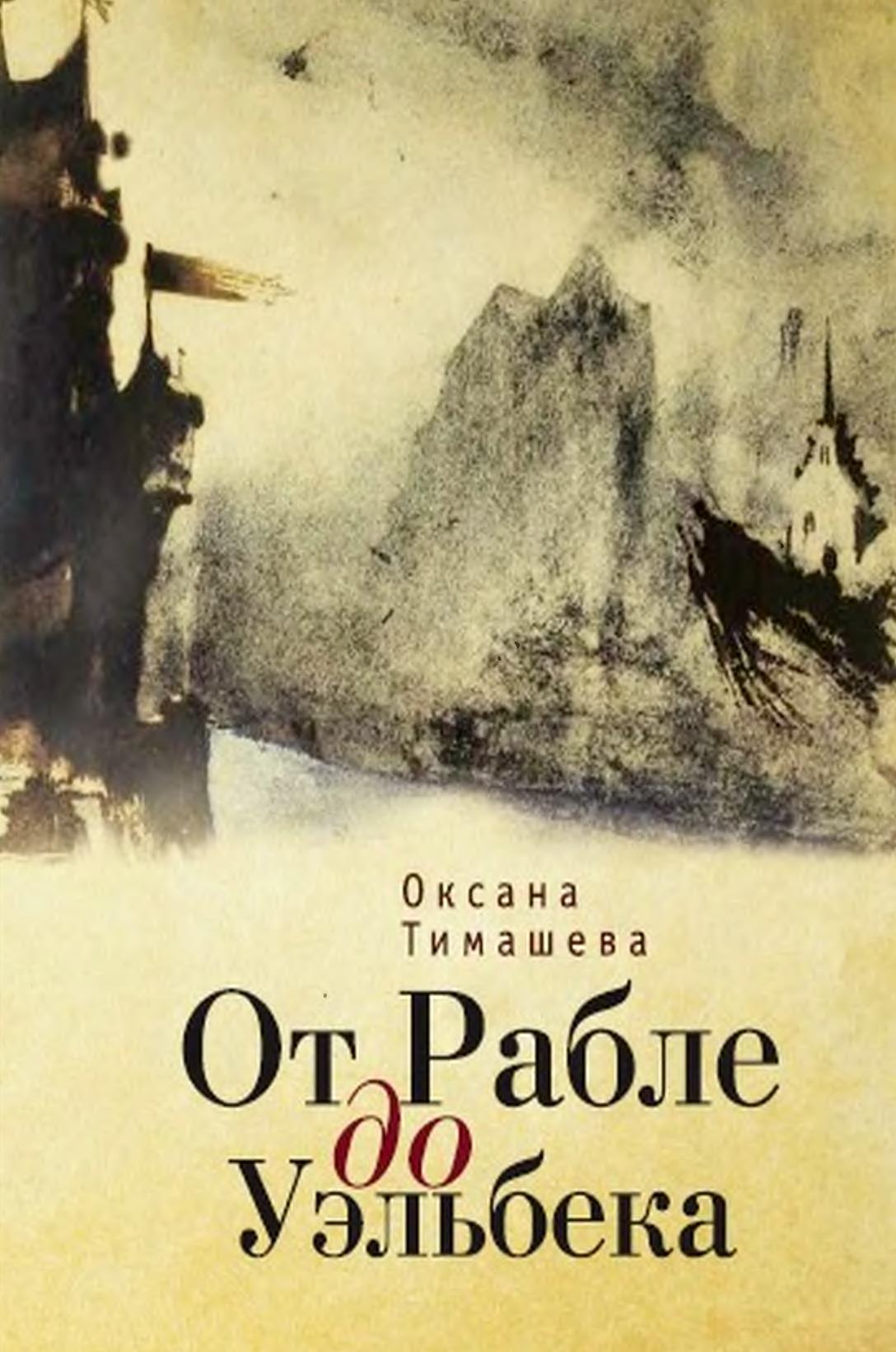
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
Если в желтом есть светлое, то в синем (голубом) — темное. Синий цвет— «прелестное ничто». Как высокое небо, далекие горы, мы видим синими, так и вообще синяя поверхность уплывает от нас вдаль. Как мы охотно преследуем предмет, который от нас ускользает, так мы охотно смотрим на синий цвет, не потому, что он проникает в нас, а потому что тянет вслед за собою. Синева дает нам чувство холода, напоминает тень. София (вечная женственность и мудрость) иной раз зрится голубою или фиолетовой, как краски на картинах Врубеля. Во всяком случае, такой она предстает и у Блока {синее в золоте). В видении Вячеслава Иванова первооснова нашего существа душа тоже, как голубой алмаз. У Владимира Соловьева духовная суть мира, как голубое покрывало завесило природу. Упоминание, и достаточно частое, русских символистов при характеристике французских поэтов совсем не случайно. Русский символизм, будучи логическим продолжением русских тенденций развития литературы, тесно соприкасался с французским символизмом. Русские поэты выступали, как переводчики французских, а значит отчасти как имитаторы (И. Анненский, А. Блок, А. Белый, Эллис, В. Брюсов). Возникнув чуть позднее французского символизма, русский символизм дает солидное обоснование этого течения устами Вячеслава Иванова, А. Белого, Гершензона, С. Венгерова, А. Лосева.
Впрочем и во Франции тоже первый специально сформулированный манифест символизма, а значит первые теоретические выкладки появились позднее ярко прозвучавших поначалу не получивших специального определения стихов Поля Верлена и Артюра Рембо, их стихотворений «Art poetique» и «Voyelles» (Цветной сонет). Символизм, как литературное течение, формировался в течение десятилетий. Его идеи постепенно оттачивались в творчестве ряда поэтов. И не только поэтов, но прозаиков, например, у Поля Бурже в его «Эссе о современной психологии». Жан Мореас не сделал новых открытий, а только объединил некоторые мысли его великих предшественников, обращая внимание на изменение ритма стиха, размера, строфики, высвобождение стиха из оков риторики, строгих кадансированных ритмов. Выражаясь фигурально, от александрийского стиха-мараша в духе В. Гюго «поздние символисты» декларативно перешли к стиху-мелодии, стиху-песне, стиху-романсу. Голос поэта стал камерным. Стоит также обратить внимание на то, что «революционность» или скорее эпатирующая сторона символистского высказывания первоначально была столь сильна, что добропорядочное общество его не принимало, исключая из своего круга ни в чем неповинных поэтов-медиумов, называя их «проклятыми поэтами» или «декадентами». В 1907 году А. Белый, знавший, что французских символистов не принимают и у нас, как и некоторых русских декадентов, не без юмора напишет о том, как однажды, слава богу, «явился Семен Афанасьевич Венгеров и объяснил присяжным поверенным Москвы и их женам: декаденты суть гуманисты; они как Некрасов, Никитин засеяли «доброе, вечное»; правда недавно они писали про «козлов», но теперь они от этого отказались; в сущности, они добрые люди, как и прочие либеральные граждане: сальных свечей не едят; это мнение стали подхватывать…»148 Трудно сказать, каких именно «козлов» имел в виду А. Белый, может быть, какого-нибудь французского сатира или фавна из Верлена. Но в переводе эти «козлы» точно изрядно могли читателей подразозлить.
Имя Верлена связывают со свободной рифмой, верлибром. Но его собственное отношение к верлибру говорит нам скорее о попытке сохранить традицию. В статье «Слово о рифме», Верлен высказывается против белого стиха, объявляя его неприемлемым для французского со свойственной ему фиксированной системой ударений. Слабая, небогатая рифма, с его точки зрения, отнюдь не означает плохая. Рифма Верлена не дробит стихотворные строки, а сливает их; она не создает регулярных конструкций, ее проявление делает стих ритмически непредсказуемым, и в этом его особенность. Создается впечатление, что Верлен оставляет рифму там, где ей захотелось встать, он предоставляет ей свободу. Рождаясь из музыки внутренних рифм и нечетких ритмов, вибрации тонов и оттенков— а это все считается верленовским мелодизмом — поэзия французского символиста превращается в многоуровневую систему суггестии— самоукачивания, успокоенья-баюканья. По мнению Малларме, Верлен извлек на свет и поначалу неожиданно применил музыку стиха — новый тембр звучания, расплавляющий слово до звука. Он создал вариацию текучую, возвращающую к чтению по слогам: /Луна мерцает/ — Леса белит/. И все вздыхает,/ Кругом звучит, /Дрожа и тая: /«Приди, родная»/.149Для поэзии Верлена вообще характерна евфония— подбор звуков наиболее соответствующих по своему экспрессивному эффекту тому общему настроению или эмоционально-чувственному тону, которые должны создать у слушателя тот или иной отрывок речи. Это важно увидеть и в переводе— благозвучие в прямом смысле слова, соответствие звучания содержанию. Вот как, например, это звучит в стихотворении Colloque sentimentale: «Dans le vieux pare solitaire et glace/Deux formes ont tout a l’heure passe/Leurs yeux sont verts et leures levres sont molles/Et Гоп entend a peine leurs paroles. — В парке забытом, холодном, пустом /— Бледные тени скользили вдвоем/ Глаз их не видно, их губы мертвы,/Шорох их голоса тише травы» (Пер. Н. Вышинского).
Для инструментовки стиха важна бывает онаматопея (звукоподражание). Иными словами, поэту необходимо порою бывает изображение какого-нибудь внеязыкового звучания с помощью схожих с ним звуков речи. Это звукоподражание может быть заложено в ряде слов, звучание которых напоминает звуковые особенности, характерные для изображения явлений. Вот классический пример, стихотворение Осенняя песня — Chanson d’automne. Для русского уха в звуках осени слышатся и тревожные крики птиц, и запоздалый выстрел охотника, и плеск холодной воды в канале, и настороженный вой собаки на луну: у-у-у-у… В своем лексическом отборе припереводе Верлена, переводчик Н. Вышинский делает акцент на словах со звуком «у» и на словах с буквой «ч». Скрипуч, тягуч/ Рыданий ключ/ Уныла осень…/Есть у Вышинского слова на «щ» (щемит) и на «с» (уносит/ осень/бросит/свист). При этом во французской Cnanson d’automne мы видим повторение слов на «л» (1), «м» (т), «н» (n): Les sanglots longs des violons de l’automne. Звучание слов, их подбор способны и по-русски, и по-французски вызывать соответствующее акустическое впечатление. Думается, что в переводе для передачи ощущения осени в звуках не случайно появляется «у». А. Белый в своем романе «Петербург» тоже его использует. Звук «у» у него вообще проходит по всему пространству романа: «…Также внезапно, — пишет он в воспоминаниях, — к ноте «у» присоединился внятный мотив оперы «Пиковая дама», изображающий Зимнюю канавку; тусклая лунная голубавато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красноватым фонариком»… Русская осень не столь нежна как французская. Для русских от осени веет зимним холодом. Читатель-филолог хорошо знает, что такое аллитерация — повторение согласных в начале слов, входящих в отрывок поэтической речи или ассонансы — повторение сходных гласных звуков. У Н. Вышинского в его переводах это отлично
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




