От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 50
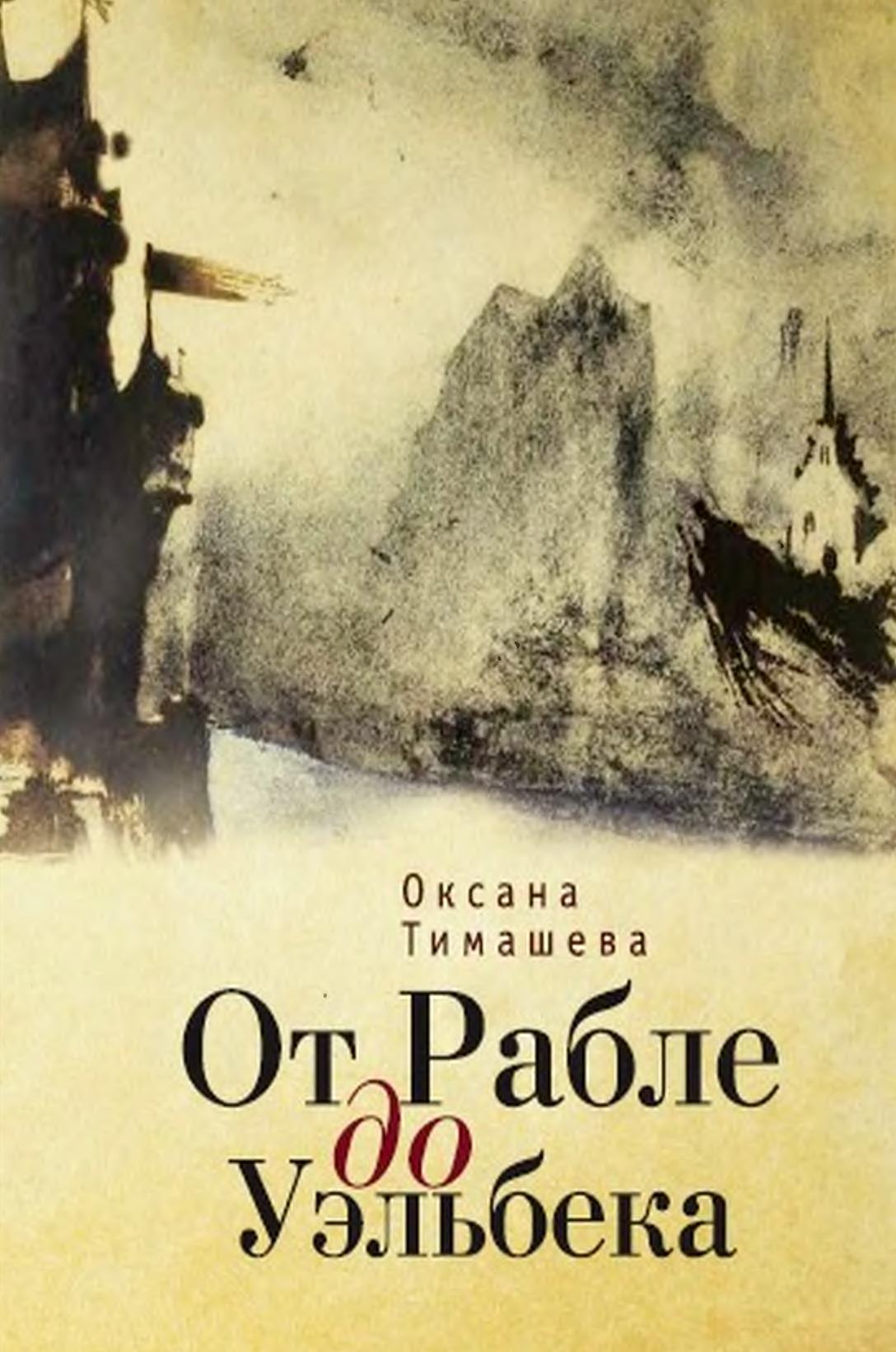
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
Мифологический взгляд на мир, по мнению В. Н. Топорова, чувственно-конкретный и вместе с тем предельно общий, как бы окутанный дымкой ассоциаций, которые могут показаться нам случайными или прихотливыми. Подлинный миф (предмиф) — это некоторая «до-речь», то «состояние души, которое стремится в мир слова»138. Если искать современный аналог мифологическому мировосприятию, то это, конечно, поэтическое видение мира, и символизм— наиболее яркое его проявление. Для мифологического мышления характерна особая логика— ассоциативно-образная, безразличная к противоречиям, стремящаяся не к аналитическому пониманию мира, но, напротив, к синкретическим, целостным, всеобъемлющим картинам. Миф не хочет различить часть и целое, сходное и тождественное, видимость и сущность, имя и вещь, пространство и время, прошлое и настоящее, мгновение и вечность. В каком-то смысле современное мифологическое представление— это серьезное безальтернативное знание, сакральность и магия которого имеют сильное воздействие на адресатов. Если придерживаться веры в изначальную образность языка, которые были свойственны, например, А. А. Потебне139 и Э. Сепиру140, то следует отметить их два источника: неразличение обрядовомагической и эстетической функции речи и внесение собственного, отчасти эстетического, отношения к памятникам языка. Древнейшая коммуникативно-семиотическая деятельность, из которой развились магия и обрядово-религиозный культы, но также науки и искусства, была синкретичной, а магия, волшебство были попыткой знакового воздействия на мир. При историческом подходе к символизму, как к движению, зародившемуся на французской почве, согласно идеям, развернутым Жаном Мореасом в манифесте символистов («Фигаро», 18 сентября 1886 года), очевиден тот факт, что музыка составляет неотъемлемую его часть. Символизм, как литературное течение, формировался в течение десятилетий. Его идеи постепенно оттачивались в творчестве ряда поэтов. И не только поэтов, но прозаиков, например, это видно у Поля Бурже в его «Эссе о современной психологии».
Когда 1 сентября 1886 года Жан Мореас опубликовал манифест «Символизм», лучшие стихотворения тех, кого впоследствии определенно стали называть символистами, уже были написаны. Идеи второстепенного поэта-теоретика Мореаса логически подвели итоги поэтическим нововведениям предшествующих лет, нашли им оправдание и соответствующий термин символизм'. «Как и все искусства, литература эволюционирует; характер изменений в ней нередко бывает циклическим, зависящим от самых разных перемен в смене эпох и настроений народа… Для нового искусства мы предлагаем название «символизм» как единственное, способное передать созидательный дух этого искусства…»141 Новая поэзия, с точки зрения Мореаса, не должна быть перегружена фактами, не должна носить декламационный и риторический характер. Она должна лишь трансцендентно выражать «первичные идеи» (А. Шопенгауэр). Жан Мореас не сделал новых открытий, а только объединил некоторые мысли его великих предшественников, высвободил стих из оков риторики, строгих кадансированных ритмов. Выражаясь фигурально от александрийского стиха-марша в духе В. Гюго «поздние символисты» декларативно перешли к стиху-мелодии, стиху-песне, стиху-романсу. Голос поэта стал камерным. Если иметь в виду только музыку, то надо отметить внутри нее повсеместный расцвет симфонической поэмы, а затем появление жанра песни на стихи современных поэтов и, наконец, утонченное внимание к звучанию и даже некоторое злоупотребление хроматизмом. Симфоническая поэма — наследие романтизма, т. е. «программной музыки», была порождена исходной установкой на элитарность избранного литературного образца. Рихард Штраус пишет поэмы «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя» по Ницше, Шенберг — поэму «Пелеас и Мелисанда» по Морису Метерлинку. Свою собственную поэму «Пелеас и Мелисанда» пишет Габриэль Форе, а Эрнест Шоссон и Александр Скрябин пишут просто «Поэмы». Клод Дебюсси в жанре симфонической поэмы пишет свои «Ноктюрны». Позднее появляется его опера по Метерлинку «Пелеас и Мелисанда».
Произведение Метерлинка «Пелеас и Мелисанда», при всей его конкретике, было написано как бы вне времени и пространства. Герои и персонажи действуют в нем, не опираясь на внешние обстоятельства, а руководствуясь только внутренними импульсами. Существует общее мнение критики, что в «Пелеасе» достигает расцвета наиболее характерное для символизма — культ суггестии, основа основ символистов, начиная с Поля Верлена. Этот культ опирается на изощренное мастерство нюансов и умолчаний. «Суггестия— это язык соответствий, — записывает Шарль Моррис в эссе «Литература нынешнего дня», 1889, — сродства души и природы. Она не стремится передать образ предмета, она проникает внутрь его естества, становится его голосом. Суггестия не может быть бесстрастной, она всегда нова, поскольку в ней заключается сокровенное, неизъяснимое, невыразимая суть вещей, к которым она прикасается. Давно затверженные слова, звучат, благодаря ей, как будто впервые. Она становится голосом предмета, о котором хочет рассказать и голосом души к которой обращен рассказ; она заставляет звучать в уме внимательного читателя некое эхо, отзвук невыразимого; выхолощенная банальность традиционной словесности чужда суггестии точно так же, как холодная научная терминология, она не станет называть цвет, но передаст в общих чертах или тончайших нюансах ощущение от него; не станет без нужды называть и описывать цветок, но явит его образ, пронизанный чувством, которое он вызывает. В нескольких строках она передаст ту изначальную взаимосвязь всего со всем и ту бесконечную дробность бытия, которые бы потребовали многих страниц выразительного описания142. Стихотворения поэтов эпохи символизма часто представляют собой, в общем виде некую миниатюру: маленькую сценку, пейзажную зарисовку, пастораль или офорт, марину или простую, графически ясную, последовательность катренов. Когда мы говорим, что поэзия изображает прекрасное, то для нас это вовсе не значит, что предмет ее действительно прекрасен. Предмет ее может быть абсолютно безобразен, как это часто случалось еще у Бодлера в его «Цветах зла». Поэтичен ведь не сам по себе предмет, но способ его изображения и способ его понимания. Как говорил А. Ф. Лосев, миф есть не схема, не аллегория, но символ; символ в отношении чего-то другого. Тогда можно сказать и обратное: символ есть миф. Символ может быть прочитан сквозь некую притчу, это раз, но он также может быть лаконичен: это и руки, и дерево, и цвет, и свет, это два. 143
Взглянем пристально на последнее: цвет и свет, их много в символистской поэзии. Но и в другие периоды истории поэзии цвет и свет по-разному жили в стихах. В начале XX века П. А. Флоренский справедливо предположил, что те роскошные цвета, которые мы видим на небесах, есть ничто иное, как соотношение неделимого цвета и раздробленности вещества. Это-то соотношение и определяет цветность. Толкование цветов у русского религиозного мыслителя напоминает видение цветов у Гете и у Лермонтов. Физики и современные психологи определяют цвет и свет иначе, но мы прислушаемся к русским философам, толковавшим по-своему абстрактно-аллегорические теории ученых материалистов. Когда речь заходит о лунном свете, последние обнаруживают свою обостренную наблюдательность. Подчеркнем, например, что у Поля Верлена
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




