От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева Страница 49
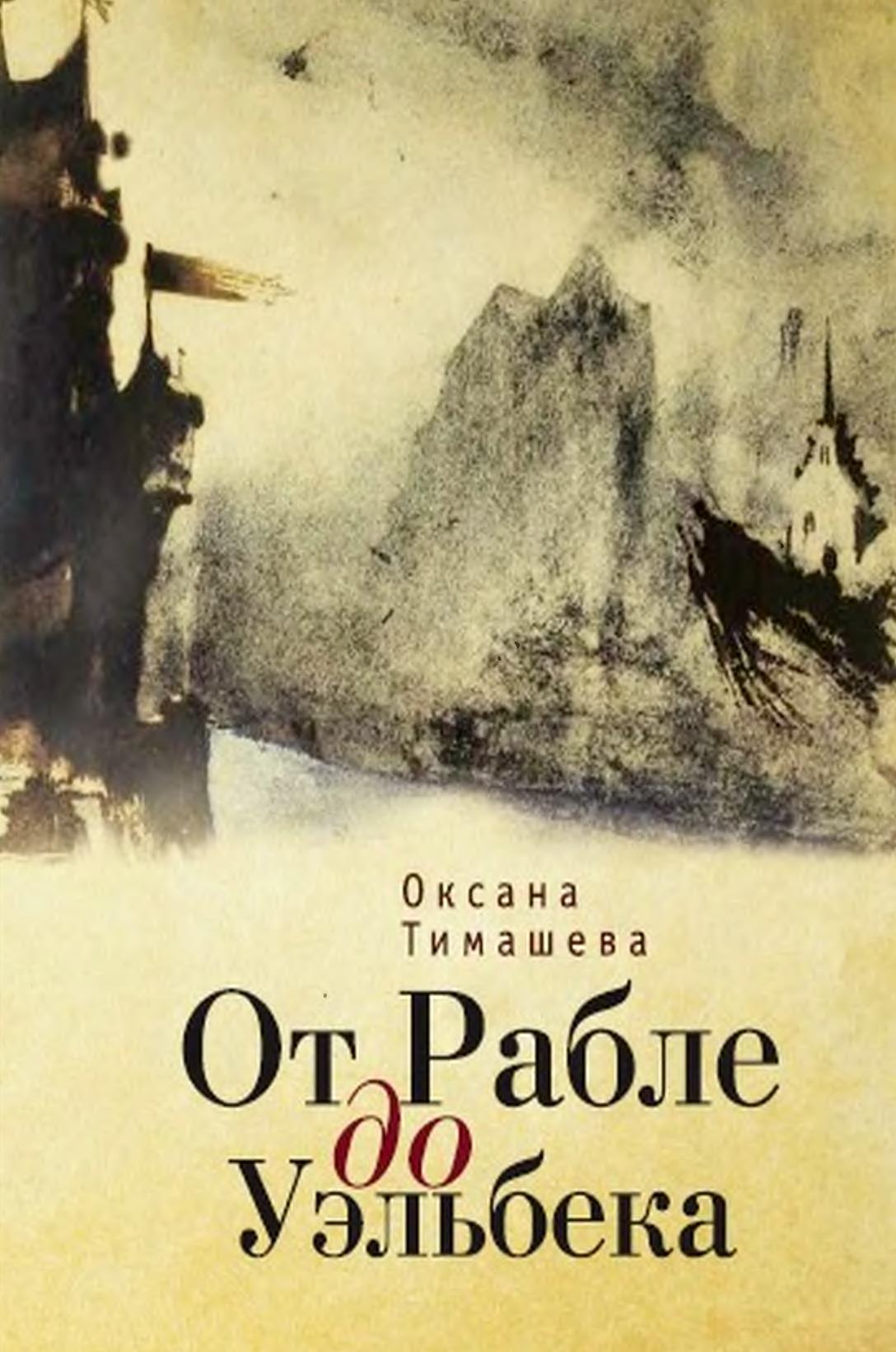
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Оксана Владимировна Тимашева
- Страниц: 120
- Добавлено: 2025-09-02 13:02:49
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева» бесплатно полную версию:Книга Тимашевой Оксаны Владимировны, преподавателя, переводчика, литератора, культуролога представляет собой сборник ее работ, лекций и статей (история зарубежной литературы, поэтика, семиотика). Настоящий «курс литературы» «От Рабле до Уэльбека», если так можно обозначить материал книги, представляет собой нетрадиционный личностный подход к французской и некоторым другим литературам в широком жанровом диапазоне, от литературного эссе (обычной лекции) до углубленного научного семиотического исследования. Здесь представлены в необычном аспекте хорошо знакомые в России французские авторы (Рабле, Ронсар, Бальзак, Стендаль, Бодлер) и в традиционном менее знакомые (Ростан, Селин, Пеги, Ален) и т. д.
Выполненная в русле современных поэтических исследований книга может быть полезна будущим бакалаврам и магистрам, но она также предназначена широкому кругу читателей, интересующихся зарубежной литературой.
От Рабле до Уэльбека - Оксана Владимировна Тимашева читать онлайн бесплатно
В России Эдмону Ростану очень повезло. Его переводит практически сразу после успеха его пьес на родине Т. Л. Щепкина-Куперник, оставившая после смерти не только переводы пьес, но и знаменитые мемуары «Театр в моей жизни», 1947, где она записывает: «Я говорила уже, что в Париже познакомилась с Эдмоном Ростаном. Он произвел на меня неожиданное впечатление. Я привыкла к русским литераторам. Как он не похож был на них!… Он был баловнем судьбы. Этим и объясняется, конечно, безмятежность его музы, которая, выражаясь языком романтических поэтов, никогда не являлась ему в лохмотьях нищеты, с трагедией голода и мрачным огнем в глазах» — его муза была такая же хорошенькая, балованная женщина, как его золотоволосая Розмонда. В пропитанные духом народничества и наступающими революциями времена начала века, как и в последующие— сталинские, когда были непосредственно созданы мемуары Т. Л. Щепкиной-Куперник, русская писательница обращает свое внимание на удачливость Ростана и богатство. «Счастье в любви, счастье в литературе, избрание в Академию в тридцать семь лет… Пьесы его переводились на все языки и ставились на всех сценах Европы. Я переводила их для русского театра. Мне нравились его красивые стихи и доставляло удовольствие пересказывать их по-русски, но они никогда не волновали меня, не давали того холодка в спине, который бывает, когда читаешь по-настоящему вдохновенные стихи».134С этим утверждением переводчицы, сделанным в советское время трудно согласиться. Никогда бы она, вольная пташка в «прекрасную эпоху», не обратилась бы к Ростану, если бы его стихи по-настоящему, как всю парижскую публику, не взволновали. В «Мемуарах» Щепкина-Куперник, как человек своего времени, не может отойти от канона большевистских представлений об искусстве, от театрально декларируемой помпезной бедности советского времени с ее духом всеобщей скромности, призванной оттенить величие одного человека. Впрочем, это мемуары, а в самих переводах пьес Ростана, сделанных при жизни драматурга, она другая. Она очень глубоко его чувствует. Не случайно он выучил для нее одну русскую фразу из ее перевода, и каждый раз повторял ее при встрече: «Любовь— это сон упоительный».
Вслед за Т. Л. Щепкиной-Куперник к Ростану обратился русский драматург В. А. Соловьев. Он превосходно перевел «Сирано де Бержерака». Сегодня его перевод кажется не менее интересным, чем сделанный Щепкиной-Куперник, столь же возвышенный, но более рациональный, приближенный к нашему времени. Вот как у Соловьева звучит автоэпитафия Сирано де Бержерака:
Прохожий, стой! Здесь похоронен тот,
Кто прожил жизнь вне всех житейских правил.
Он музыкантом был, но не оставил нот.
Он был философом, но книг он не составил.
Он астрономом был, но где-то в небе звездном
Затерян навсегда его ученый след
Он был поэтом, но поэм не создал!
Однако жизнь свою он прожил как поэт.135
Ростан часто повторял «Надо жить и умножать себя». Это значило для него жить неуспокоенной лихорадочной жизнью, впитывать все, что предлагает грешный Париж. Дитя своего века, Ростан умер, ощутив болезненные психические сдвиги довольно молодым в 1918 году. Аскеты и трезвенники сказали бы: «Не перенес излишеств», а Оскар Уайльд добавил: «За неимением другого пришлось жить излишествами».
Координация мифологического и музыкального у символистов
И в литературе, и в живописи символизм восходит к таинственному и необычайному. Поэты и художники изобретают новый язык, которым говорит эпоха. Этот язык осваивает различные виды творческого самовыражения: проза и поэзия, новая драма и философия, графический и мебельный дизайн, архитектура и музыка. Каждая крупная фигура символизма отличается уникальным характером, несет печать своей судьбы. Эпоха символизма декларирует разрыв с историей, но устремляется в глубины космоса, на другую сторону бытия, хотя и не обязательно идет дорогой смерти. Профанный человек перемещается в потустороннее через сон, транс, психоделию. Заглядывая в пучину бессознательного, он встречается с антериальным театром, с некоторой виртуальной реальностью, со сновидением, ускользающим от вразумительных объяснений. Мифология здесь предстает перед нами как симбиоз антропологии, культурологии и игрологии, в каком виде это было и есть доступно древнейшему сознанию— мифологическому.136 Художник только реактуализирует эту своеобразную сферу. Оригинальность составляет ее жизненную основу и самую сердцевину эпохи символизма. Она имеет свою диалектику, согласно которой целое характеризуется общими чертами, а ее носителями являются индивидуальности. В драматические эпохи, когда остро ощущается эфемерность реальности, неуверенность в ней, когда царит устойчивое ощущение хрупкости мира наших представлений (этого, обращаясь к индуизму и А. Шопенгауэру, «покрывала Майи»), сон превращается в средство забвения, в уход от реальности. Демонизм настоящей жизни навевает «золотые сны», воплощающиеся в сновидения, даримые искусством, в искусство как сон. Разум от мифа отличается причинно-следственной связью. Один естественен для науки и житейской практики, он описывается абстрактными формулами и законами логики. Другой — магический, мистический, туманный, путь сновидений и художественного творчества. На этом пути сливаются сон и музыка. Медиумом демонической души назвал музыку С. Кьеркегор, фаустовско-европейской сути — О. Шпенглер.137Вселенная и все сущее в ней — некий музыкальный метаинструмент, где каждое резонирует с другим, порождая космические волны, улавливаемые человеческой душой. Человеческая музыка транслирует бесконечные энергетические процессы во Вселенной, и сама, в силу своей энергетической породы, участвует в этом процессе. Звук, посланный во Вселенную, продолжает путешествовать по ней. В силу своей природной импульсивности музыка участвует в мировом круговороте и, если обратиться к китайской мифологеме, посредством энергии звука способна управлять миром. Тон «гун» аналогичен философскому камню европейских алхимиков, перенесенному в сферу музыки.
Европейская традиция выражает подобную идею иначе. Согласно Боэцию, гармония небесных движений и всех природных процессов составляет мировую музыку (musica mundane). Она воспринимается человеком, поскольку он гармонично устроен, в нем существуют в гармонии тело и душа (musica Humana). Инструментальная музыка — человеческое искусство. Ее гармоничность рождается тогда, когда звуки и интервалы образуют соотношения и композиции, воспроизводящие музыку мировую и человеческую. Настоящий человек музыки (homo musicus) это не виртуозный исполнитель и даже не создатель-композитор, а лишь тот, кто обладая силой созерцания, постигает рациональные основания музыки, то есть не музыкант, но
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




