Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова Страница 23
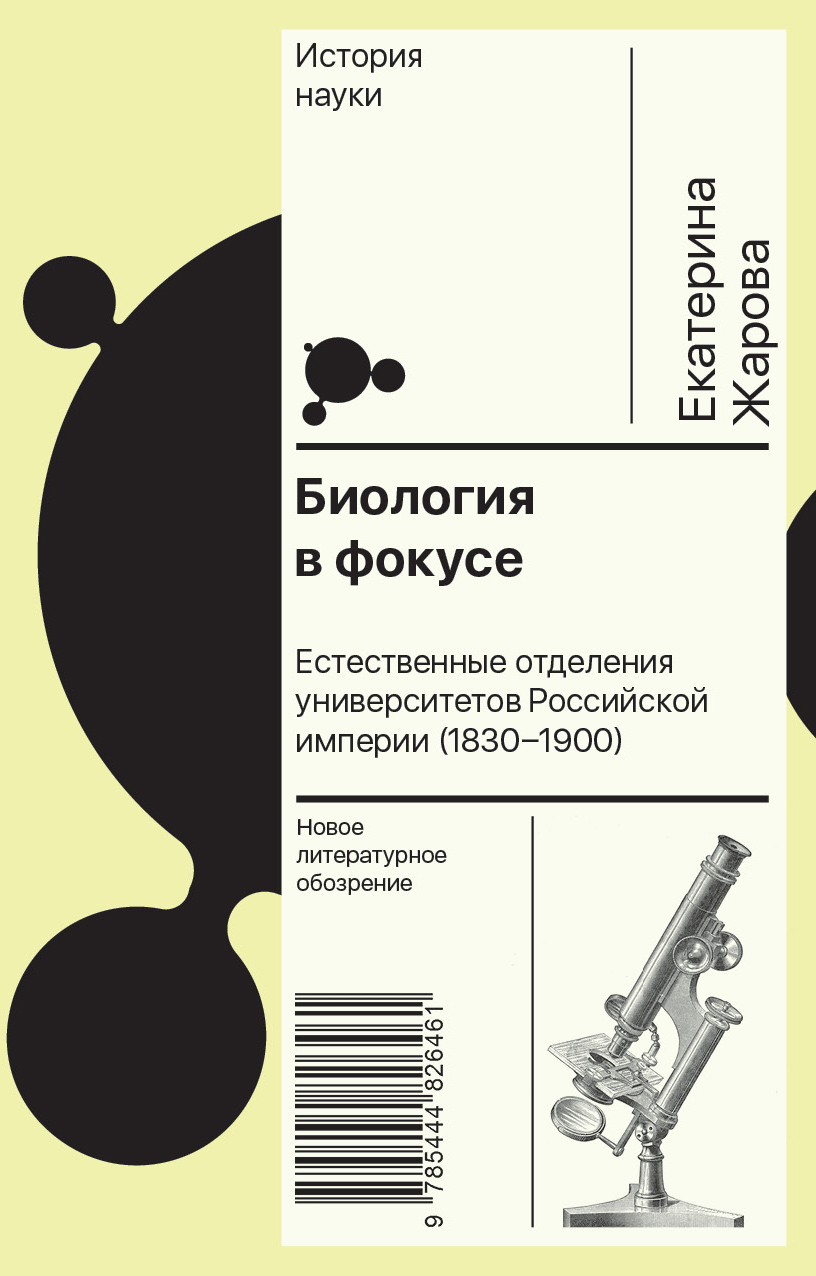
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Биология
- Автор: Екатерина Юрьевна Жарова
- Страниц: 32
- Добавлено: 2025-09-06 02:00:33
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова» бесплатно полную версию:Изучение истории высшего образования в России не только дает возможность проследить генеалогию его актуальных проблем, но и позволяет взглянуть на российское общество в микрокосме. В своей монографии Екатерина Жарова рассматривает историю естественных отделений физико-математических факультетов университетов Российской империи с момента их появления в середине 1830‑х годов и до начала XX века. Автора интересуют важнейшие аспекты научной жизни: организация обучения (лекции, практические занятия, экзамены), формирование профессорско-преподавательского корпуса и лабораторной базы, специализация и профессионализация. Отдельный важный аспект исследования – попытка проследить роль государства в развитии естественных наук. Анализируя влияние государственной политики на изучение и преподавание биологии, автор показывает, как на университетской жизни отразились исторические трансформации, вызванные сменой эпох – от Александра I до Николая II. Екатерина Жарова – доктор исторических наук, старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН.
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова читать онлайн бесплатно
Как мы видим, правила не всех университетов даже и в 1870‑е гг. содержали сведения о практических занятиях. Однако для организации практических занятий в 1870‑е гг. были необходимы усилия профессоров и преподавателей в 1860‑е гг., которые привели к созданию базы для проведения занятий и ввели их в курс обучения. О том, какие усилия прилагали профессора естественных отделений для создания научной базы для организации практических занятий, зачастую можно судить лишь по воспоминаниям их коллег и учеников. Так, Н. Ю. Зограф, ученик А. П. Богданова, бывший студентом на рубеже 1860–1870‑х гг., вспоминал, что в то время «от естественника для окончания курса не требовалось даже самых основ практической аналитической химии»[268], противопоставляя усилия своего учителя для организации практических занятий: «В занятиях А. П. Богданова со студентами была известная, определенная последовательность. Он был большим поклонником вывезенного из Гисена метода зарисовки виденного. <…> Итак, А. П. Богданов учил прежде всего смотреть и наблюдать; контролируя рисунки студентов, он обыкновенно садился сам за микроскоп, изображал то, что было видно, и, сравнив свой чертеж с чертежом новичка, тот же час старался выяснить ему, чем обусловлена его ошибка»[269].
Несмотря на то что устав 1863 г. не имел положения об обязательности практических занятий, именно с введением в действие этого устава связано повсеместное их распространение по всем предметам естественного цикла. Важным стимулятором практических занятий стало разделение факультетов на отделения, а затем и возможность специализироваться в области отдельных наук. И. М. Сеченов, в 1885 г. подводя итоги двадцатипятилетней деятельности университетов в области естественных наук, приводил следующие цифры по Петербургскому университету. Практические занятия по физике начались в 1865 г., и до конца 1860‑х гг. число практикантов не превышало десяти человек в год. В 1870 г. их было 18, в 1875 г. – 76, в 1878 г. – 115. В 1880‑е гг. число практикантов сохранялось около ста человек. Число практикантов по аналитической химии, бывшей обязательной для всех студентов второго курса, с середины 1870‑х гг. возросло с 86 до 220 человек в год. Все они работали в несколько смен. В ботанических лабораториях занималось по физиологии растений 80 человек (студенты третьего курса), по анатомии растений – 100 человек, в зоологической лаборатории – 30–40 человек, по гистологии и микроскопии – около 80 человек. Геологией занимались только специалисты, которых было 109 человек за 17 лет. Их практические занятия проходили в виде геологических экскурсий[270].
Естественно, увеличение числа практикующих приводило к необходимости увеличения ассигнований на проведение практических занятий. Так, в 1876 г. Санкт-Петербургский университет просил увеличить содержание на 1500 рублей на покупку «снарядов и инструментов», содержание и приобретение животных для занятий физиологией[271]. В 1881 г. он вновь просил министерство об увеличении помещений лабораторий для занятий студентов естественного разряда, как того требовало разделение на специальности. В качестве меры, которая могла бы стабилизировать практические занятия студентов четвертого курса, предлагалось отменить обязательное посещение лекций и практических занятий, предоставив места только для тех студентов, которые изъявили желание работать[272].
В еще более плачевном состоянии оказались практические занятия по сравнительной анатомии, так как профессор Н. П. Вагнер совершенно не уделял им времени. Об этом вспоминал В. М. Шимкевич, работавший у него ассистентом (в конце 1880‑х гг.): «Н. П. Вагнер лабораторией почти не интересовался, и она осталась всецело на моей ответственности. Самое трудное было добывать деньги на организацию лаборатории. Н. П. Вагнер часто пропускал заседания факультета, и поэтому нередко наши нужды не будучи в достаточной мере выяснены, оставались неудовлетворенными»[273]. Н. М. Книпович, учившийся в Петербургском университете в начале 1880‑х гг., в своей автобиографии писал о заброшенности зоотомического кабинета, в котором не у кого было учиться методам исследования[274]. Лишь приезд К. С. Мережковского из Европы дал надежду на специальные исследования для группы интересовавшихся студентов.
Но были профессора, боровшиеся за создание лабораторий и сумевшие достичь больших высот. Н. Ю. Зограф, учившийся в Московском университете на рубеже 1860–1870‑х гг., вспоминал, что «обстановка лаборатории [Зоологического музея] того времени была еще чрезвычайно примитивная. На всех занимавшихся, а нас было, помнится, семь человек, был один микроскоп, да и тот принадлежал лично А. П. Богданову; это был тот самый тамбурный микроскоп, который когда-то был поводом к лекции К. Ф. Рулье; он и теперь хранится в одном из шкафов зоологического музея. Правда, в музее были еще два микроскопа – они и теперь красуются на колоннах под стеклянными колпаками в музее, но эти громоздкие инструменты были непригодны к употреблению; один из них, работы Фрауэнгофера, был пожертвован университету покойным государем Александром Николаевичем, еще в бытность его наследником, в 1834‑м году и хранился, как реликвия; другой – работы Шевалье, приобретенный приблизительно в тридцатых годах, на людской памяти, был лишен оптических частей, а потому им нельзя было пользоваться»[275]. С такими вводными условиями А. П. Богданову удалось развернуть масштабную работу и впоследствии создать в Зоологическом музее рабочие места – «клетки», в которых находились рабочие места для исследователей.
Другой ученик А. П. Богданова В. А. Вагнер, учившийся на рубеже 1870–1880‑х гг., когда уже были созданы рабочие места для практики студентов, вспоминал: «Посадили меня в „клетку“, снабдили необходимыми реактивами, микротомом, лупой, микроскопом. Научили, как нужно действовать этими предметами, сколько времени и какие разрезы держать в кармине, в пикрокармине, в гематоксилине; как нужно делать двойные окраски, как обмывать препарат в воде, в спирту, „просвещать“ в гвоздичном масле, потом в канадском бальзаме и т. д., и т. д. Потом дали книжку Геккеля и предоставили проверять его открытия… В соседней клетке сидел студент того же курса, помощью продольных и поперечных разрезов проверявший кого-то по части анатомического строения. С другой стороны, по соседству, если не изменяет мне память, студент исследовал тоже помощью поперечных и продольных разрезов анатомию клопа»[276]. В. А. Вагнер считал такой путь ошибочным, так как «изучение спонгиологии, вместо зоологии, специальное исследование одного вопроса вместо прохождения общего систематического курса, элементарно ведет к подготовке не ученого, а ремесленника»[277]. У
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




