Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова Страница 19
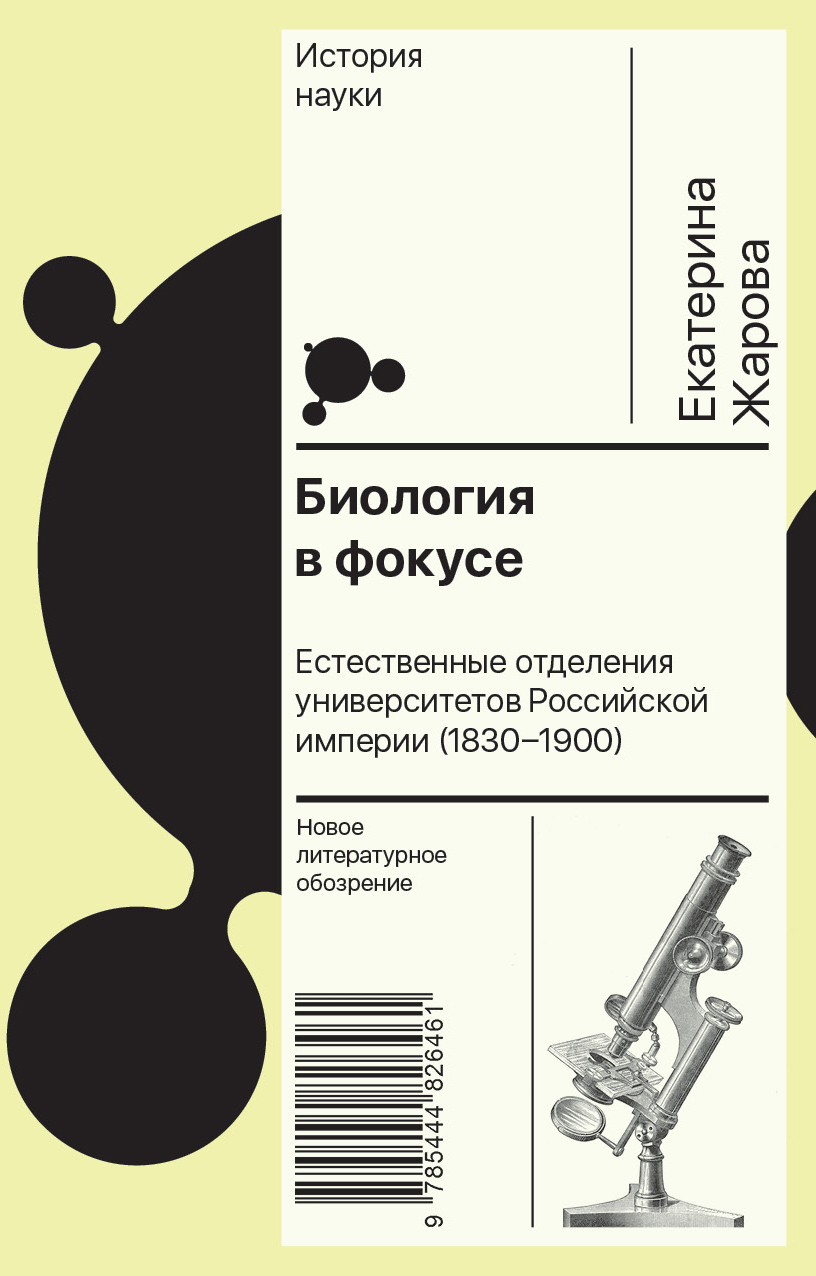
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Биология
- Автор: Екатерина Юрьевна Жарова
- Страниц: 32
- Добавлено: 2025-09-06 02:00:33
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова» бесплатно полную версию:Изучение истории высшего образования в России не только дает возможность проследить генеалогию его актуальных проблем, но и позволяет взглянуть на российское общество в микрокосме. В своей монографии Екатерина Жарова рассматривает историю естественных отделений физико-математических факультетов университетов Российской империи с момента их появления в середине 1830‑х годов и до начала XX века. Автора интересуют важнейшие аспекты научной жизни: организация обучения (лекции, практические занятия, экзамены), формирование профессорско-преподавательского корпуса и лабораторной базы, специализация и профессионализация. Отдельный важный аспект исследования – попытка проследить роль государства в развитии естественных наук. Анализируя влияние государственной политики на изучение и преподавание биологии, автор показывает, как на университетской жизни отразились исторические трансформации, вызванные сменой эпох – от Александра I до Николая II. Екатерина Жарова – доктор исторических наук, старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН.
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова читать онлайн бесплатно
В обозрениях Казанского университета вообще не говорится о практических занятиях по биологическим наукам, как и в обозрениях Санкт-Петербургского университета (упоминаются только практические занятия в лаборатории химика А. А. Воскресенского), только в Харьковском университете практические упражнения были более-менее упорядочены: обязательно указывалось число часов для них. Так, у профессора ботаники В. М. Черняева в 1847–1848 гг. были предусмотрены «практические упражнения в изучении полезнейших в общежитии растений в летнее время на живых, а зимнее на сухих экземплярах; на последние два предмета посвящено будет 4 часа в неделю», кроме того, летом предлагались ботанические экскурсии[234].
Д. В. Аверкиев, студент естественного отделения Санкт-Петербургского университета конца 1850‑х гг., упоминал только о практических упражнениях в лаборатории химии профессора А. А. Воскресенского, однако отзыв этот был нелестным[235]. Он также вспоминал, что сам профессор А. А. Воскресенский признавался, что ничего не читал с 1842 г. (к этому времени относились его основные научные открытия и труды). Его трудно было назвать уставшим от жизни стариком, так как в конце 1850‑х гг. ему было около пятидесяти лет. Причиной такого поведения было скорее то, что А. А. Воскресенский «так приобык в преподавании, что повторял свои лекции чуть ли не слово в слово из году в год»[236].
Особняком в отношении организации занятий стоял Дерптский университет, в котором существовали практические занятия для студентов. Так, в 1853 г. в отчете о состоянии и направлении преподавания, которые в последние годы царствования Николая I в министерство должны были отправлять все университеты, указывалось, что «изложение наук в Дерптском университете состоит из лекций, читаемых преподавателями, из практических упражнений, установленных для студентов и из лекторских уроков в языках новейших»[237]. Воспоминания П. Д. Боборыкина, перешедшего в 1855 г. из Казанского в Дерптский университет, подтверждают это[238]. Но Дерптский университет отличался от остальных русских университетов, он был своеобразным «переходным звеном» между русскими и немецкими университетами, поэтому естественным образом передовые европейские идеи приходили туда раньше.
Хотя о том, что практические занятия в химической лаборатории Казанского университета у А. М. Бутлерова в 1850‑е гг. были нормой, свидетельствует все тот же Боборыкин, который занимался там химией практически. При этом профессор физиологии В. Ф. Берви «кровообращение объяснял на собственном носовом платке»[239], так как не было кабинета, опытов и вивисекций.
Такая ситуация с практическим изучением естественных наук в университетах Российской империи в 1840–1850‑е гг. объяснялась И. М. Сеченовым тем, что, во-первых, сама университетская среда мало способствовала развитию естествознания (хотя были исключения, о которых мы упомянули), и, во-вторых, в то время были иные требования к профессору-натуралисту: «Ученость определялась начитанностью, современность – тем, насколько профессор следит книжно за наукой, дельность – внесением в преподавание здравой логической критики, талантливость – уменьем обобщать, а преподавательские способности – ораторским талантом. Нормы требований были одинаковы и от реалиста, и от представителя книжной учености»[240].
И. М. Сеченов приводит пример славы двух натуралистов Московского университета поры его студенчества, пользовавшихся громкой репутацией: «…когда слушатели, тоже натуралисты, увлеченные удачной красивой лекцией одного из них, хотели похвалить его особенно сильно, то говорили, что он почти такой же превосходный профессор, как Грановский и Кудрявцев». Так как И. М. Сеченов учился в начале 1850‑х, поэтому говорил он, скорее всего, о К. Ф. Рулье. Запрос со стороны среды рождал определенный тип профессора, ценимый студентами. Несмотря на то что Рулье проводил практические занятия со студентами (он был знаменит своими зоологическими и палеонтологическими экскурсиями в окрестностях Москвы), ценился он прежде всего как хороший лектор и блестящий оратор.
Бывшие студенты, писавшие свои воспоминания в новую эпоху с новыми требованиями, рисовали довольно негативные образы профессоров николаевского времени. Воспоминания конца 1820‑х гг. о молодом профессоре ботаники В. М. Черняеве восхваляют его методику преподавания, а учившийся у него в начале 1850‑х гг. И. В. Любарский характеризовал его как выжившего из ума старика, совершенно отставшего от науки и неудержимого болтуна, чьи разглагольствования касались всего, кроме ботаники[241].
А. Н. Бекетов писал о П. Я. Корнух-Троцком, что тот «употреблял множество часов на систематику, которую читал очень подробно, быстро показывая сотни сухих растений на каждой лекции. Это под конец сильно надоедало»[242]. А К. А. Тимирязев просто-напросто высмеивал И. О. Шиховского, у которого, кстати, не учился, за то, что тот «аккуратно раз в год появлялся с аудитории с микроскопом, колоссальным, скорее напоминавшим телескоп, микроскопом Chevalier и неизменно повторял следующую фразу: „Вот, господа, если очень острым скальпелем сделать очень тоненький разрез серной спички, то можно увидеть интереснейшее строение древесины сосны. Я и сам пробовал, да что-то очень темно, плохо видно“. А затем микроскоп тем же порядком убирался в шкап до следующего года»[243].
Д. В. Аверкиев критиковал практически всех своих профессоров (из‑за близости опубликованных воспоминаний ко времени учебы он не называл имен, но всем было понятно, о ком идет речь), а профессора зоологии С. С. Куторгу в особенности, говоря, что он «имел удел пленять своими лекциями вновь поступивших студентов; со второго курса студенты начинали охладевать к его блестящим талантам. Все легко замечали, что у него есть коньки, на которых он любит выезжать, – к несчастию коньки эти были весьма незавидного свойства и скоро всем надоедали. Профессор до того увлекался и повторялся, излагая свои общие идеи, что лекции его становились невыносимо скучны; выносилось из них весьма мало; вся лекция легко умещалась на четверке довольно крупного письма»[244]. Он даже упрекал его в ошибках, допускаемых в изложении фактов, что определенно снижало уровень профессора в глазах студентов, да и уровень научных трудов вызывал сомнение у студентов, считавших их несамостоятельными и компилятивными (хотя после его похорон студенты говорили много задушевных слов, вспоминая профессора Куторгу, и признавались, что он умел внушить любовь к науке и, в сущности, студенты любили старого профессора).
Разве можно было представить такое отношение к профессору двадцатью годами ранее? В университеты пришла новая генерация студентов, которая желала учиться у новых профессоров. И если раньше студенты совместно выражали лишь свое восхищение профессорскими лекциями, то в конце 1850‑х гг. – уже недовольство тем или иным профессором, которое могло привести даже к отставке последнего. Например, в 1858
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




