Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова Страница 18
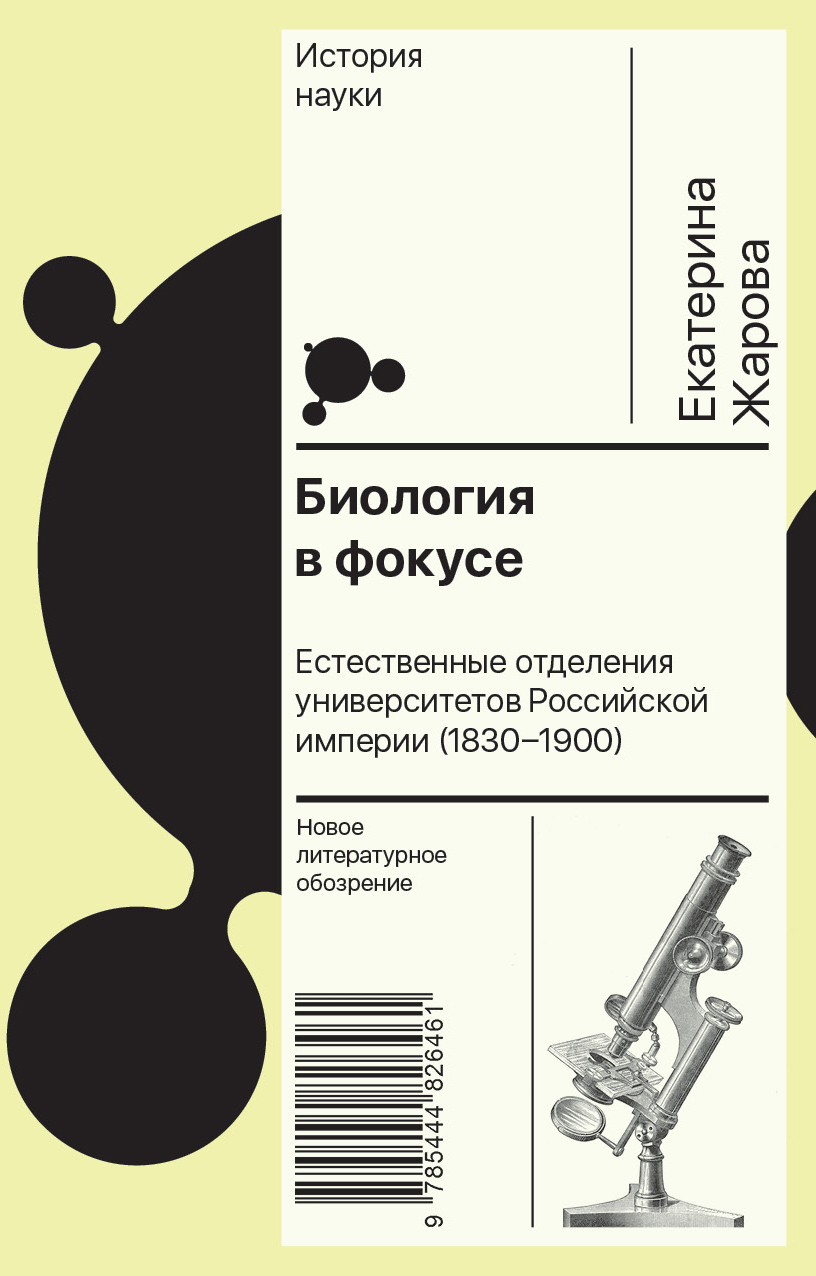
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Биология
- Автор: Екатерина Юрьевна Жарова
- Страниц: 32
- Добавлено: 2025-09-06 02:00:33
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова» бесплатно полную версию:Изучение истории высшего образования в России не только дает возможность проследить генеалогию его актуальных проблем, но и позволяет взглянуть на российское общество в микрокосме. В своей монографии Екатерина Жарова рассматривает историю естественных отделений физико-математических факультетов университетов Российской империи с момента их появления в середине 1830‑х годов и до начала XX века. Автора интересуют важнейшие аспекты научной жизни: организация обучения (лекции, практические занятия, экзамены), формирование профессорско-преподавательского корпуса и лабораторной базы, специализация и профессионализация. Отдельный важный аспект исследования – попытка проследить роль государства в развитии естественных наук. Анализируя влияние государственной политики на изучение и преподавание биологии, автор показывает, как на университетской жизни отразились исторические трансформации, вызванные сменой эпох – от Александра I до Николая II. Екатерина Жарова – доктор исторических наук, старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН.
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900) - Екатерина Юрьевна Жарова читать онлайн бесплатно
Профессор естественной истории Харьковского университета Ф. А. Делавинь «демонстрировал растения в ботаническом саду и ходил раз в неделю по утрам летом при благоприятной погоде, со студентами в поле для ботанических объяснений»[218], также он часто водил студентов в зоологический кабинет и любил, когда его расспрашивали о собранных там экземплярах[219]. А сменивший его в 1826 г. В. М. Черняев предпринимал с ранней весны ботанические экскурсии и «в поле на живых растениях <…> учил терминологии, физиологии и систематике. Черняев обладал завидною способностью объяснять сложные, научные предметы разговорным языком, подтверждая свои объяснения опытами: разрезами и микроскопом»[220]. Профессор ботаники Московского университета Г. Ф. Гофман «по воскресеньям в 7 часов поутру»[221] ходил на ботанические экскурсии.
Важность профессорской лекции в первые десятилетия XIX в. была обусловлена тем, что не было учебников и учебных пособий не только на русском, но и на иностранных языках, поэтому посещение лекций было залогом успешного обучения студентов. На лекциях показывались опыты, что было, безусловно, полезно ввиду отсутствия практических занятий в лабораториях и кабинетах.
Позднее появились так называемые репетиции (или «репетички», как их называли некоторые профессора), которые характеризовались так: «Профессора „спрашивали“ нас, как это заведено и теперь только в гимназиях. Обыкновенно, профессор, прочитав 5–6 лекций, уходя из аудитории, говорил стереотипную фразу: „Господа, в следующий раз мы займемся повторением пройденного“. Это означало, что на следующей первой лекции нас будут „спрашивать“ и мы готовились к ответам»[222]. Частота проведения репетиций зависела от самого профессора: кто-то проводил их довольно часто[223], кто-то – несколько раз в год[224].
У некоторых профессоров репетиции проходили для исправления записанного на лекции в виде обсуждения и выступления по желанию и больше напоминали семинарские занятия в современном их виде. Репетиции сохранялись довольно долгое время, даже правила Казанского университета 1860‑х гг. имели пункт об обязательности полугодовых репетиций[225].
О том, какие знания студенты показывали на репетициях, профессора составляли рапорты и подавали ведомости об успеваемости за определенный промежуток времени, чаще всего за месяц[226], но составление этих рапортов, как и появление самих репетиций, относится уже к периоду после 1815 г., когда свобода обучения и свобода преподавания, провозглашенные по уставу 1804 г., повсеместно начали заменяться курсовой системой и строгим контролем за избранием профессорами руководств для чтения той или иной науки, посещением студентами и профессорами лекций.
Немалое значение для улучшения преподавания имело принятие нового устава 1835 г. В качестве обязанностей профессоров устав называл полное, правильное и благонамеренное преподавание предмета и точное и достоверное сведение об успехах и ходе наук[227]. Поэтому основным достоинством профессора первой половины XIX в. считалось ораторское мастерство, а задачей – подготовка лекции для более интересного, но все же пассивного восприятия материала студентами. Причинами можно назвать культивирование традиций предыдущей эпохи и саму университетскую среду, в которой не было условий для развития университетов как научных центров: в университетах наука должна не только передаваться, но и рождаться, а в университетах первой половины XIX в. внимание уделялось именно демонстративному компоненту, а не практическому. Все так же господствовала лекционная система, а практические занятия проводились спорадически только благодаря энтузиазму отдельных профессоров.
Наиболее доступными оказались практические занятия по химии, однако, несмотря на знакомство российских химиков с методикой практического обучения Юстуса Либиха, существенных изменений практическое преподавание химии не претерпело. Организация практических работ в химических лабораториях первой половины XIX в. была построена по следующему принципу: в лучшем случае отдельные студенты, показавшие высокие результаты, могли практиковаться там время от времени. Естественно, ни о каких массовых практических занятиях речи не шло, а демонстрации опытов на лекциях все еще оставались единственной доступной для всех студентов практической частью обучения. Химические лаборатории, больше других, казалось бы, приспособленные для практических занятий, даже в 1840–1850‑е гг. не отличались широким охватом и интенсивностью работ. И чаще всего это было связано не только с нехваткой помещений и, соответственно, рабочих мест в них, но и с нежеланием профессоров. Например, в Московском университете, получившем новое здание химической лаборатории в 1838 г., десятью годами позднее практические занятия проходили только для студентов четвертого курса и состояли «в производстве химических опытов и разложения, по 3 часа в неделю»[228]. В Харьковском университете в 1840‑е гг. практические занятия по химии проходили для студентов третьего курса естественного отделения и состояли в качественном анализе по два часа в неделю[229], в конце 1850‑х гг. ситуация была такой же[230].
Проблема организации практических занятий в химических лабораториях в 1840–1850‑е гг. имела более глубинные причины, нежели трудности с помещениями или нежелание профессоров. Дело в том, что в то время практические занятия в лабораториях, во-первых, не были обязательными, а во-вторых, не считались необходимыми. По свидетельству химика А. А. Альбицкого, «малочисленность занимающихся в лаборатории студентов, конечно, зависела главным образом от того, что в то время не считались вообще работы в лаборатории необходимыми; затем и в обществе не сознавалась так нужда в химических знаниях, как теперь, и химика смешивали с аптекарем; к тому же занятия химией требуют большого труда и не так доступны, как, например, собирание растений, бабочек, чем любили заниматься тогдашние натуралисты»[231].
Однако и в отношении биологии складывалась такая же печальная картина. Несмотря на распространение микроскопии и микроскопических методов исследования, наличие оборудованных кабинетов и ботанических садов, препаратов животных в спирту, чучел, костей, раковин, зоотомических препаратов и сухих растений, практические занятия по биологическим дисциплинам тоже не получили широкого распространения. При этом физико-математические факультеты были разделены на отделения, снизилась учебная нагрузка студентов-естественников, а число студентов значительно уменьшилось. Благодаря научным командировкам и даже стажировкам в лаборатории Либиха российские профессора были знакомы с его методами практически ориентированного преподавания, однако оно так и не получило распространение в России до начала 1860-х.
В Московском университете, например, среди обязательных дисциплин очень долго находились предметы математического цикла, а в учебных планах не указывалось число обязательных практических занятий студентов, хотя в обозрении преподавания о них упоминалось. Но упоминание это было без указания часов и говорило о том, что проводиться такие занятия будут по желанию самих студентов. Например, в 1847–1848 гг. профессор ботаники А. Г. Фишер помимо лекций упражнял студентов третьего и четвертого курсов в анализировании, определении и описании свежих
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




