Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 58
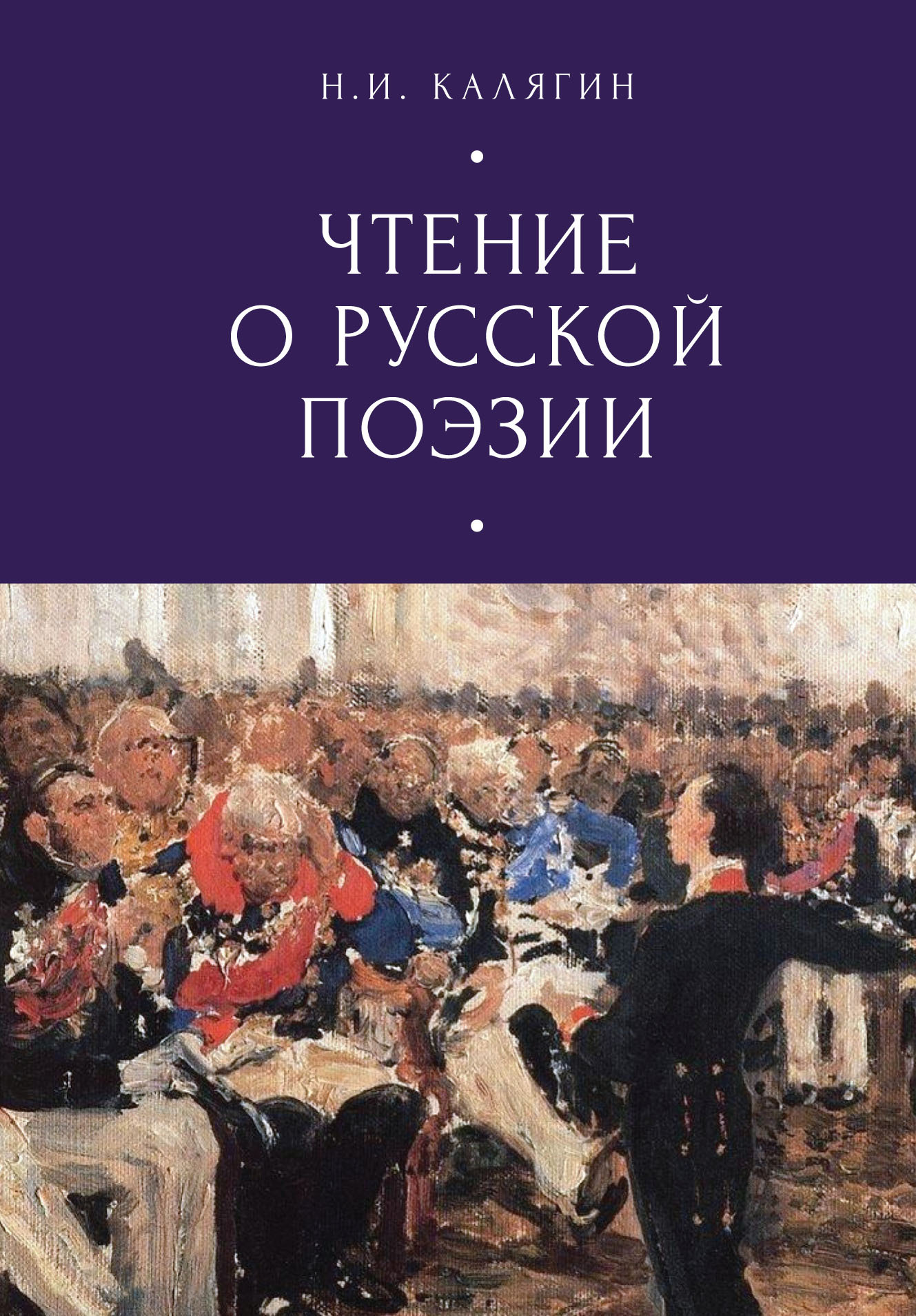
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
И только литератор в России такой роскоши – не тратить времени на чтение Батюшкова – позволить себе не может.
Не все понимают, кажется, что у Жуковского, Пушкина, Лермонтова учиться бесполезно. Сколько ни учись – заново не родишься, на царского сына не выучишься, «Русалку» и «Ангела» в семнадцать лет не напишешь. Батюшков, слабо начинавший, прибавлявший по капле, мучительно долго преодолевавший трудности, общие для любого человека, собравшегося написать страницу по-русски, – живое учебное пособие для становящихся авторов.
Жизненный опыт Батюшкова – опыт писателя, сумевшего разжечь крохотную искру природного дарования, сумевшего наперекор судьбе добавить две-три странички к многотомному своду классической русской литературы и заплатившего за это страшную цену, – останется навсегда поучительным и актуальным. Батюшков у нас – поэт для специалистов, поэт для поэтов.
Время, о котором мы говорим, – плохое время. Современники чувствовали себя в нем превосходно: ругали Аракчеева, бредили Байроном и Шиллером, смотрели на родную землю так, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело», – мы же видим сегодня на этом месте узенькую перемычку между двумя пропастями, уводящими отвесно в преисподнюю земли.
Страна должна была погибнуть в 1812 году, но не погибла и, оказавшись довольно неожиданно во главе европейских народов, бодро двинулась к новой гибели – к неизбежному крушению всей государственной постройки в 1825 году.
Подумайте сами, что сталось бы с русской литературой Нового времени, если бы Бог не спас Россию в декабре 25-го?
В кровавой мясорубке сгинули бы Пушкин и Баратынский, Хомяков и Киреевский. Тютчев прожил бы жизнь нищим эмигрантом, Гоголь – жителем «ближнего зарубежья». Достоевский и Фет в колонии для беспризорных детей получили бы новые имена – Бесфамильный и Непомнящий. Лев Толстой вовсе не родился бы.
На память о безвременно погибшей России остались бы Ломоносов и Державин, Крылов и Карамзин, мерцали бы начатки какого-то непонятного великого будущего в стихах Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина… В общем, осталась бы от нас вполне респектабельная литература среднего европейского уровня – не хуже польской или швейцарской.
И только одно произведение резко выделялось бы своим подавляющим, загадочным совершенством – грибоедовское «Горе от ума», законченное к началу 1824 года.
В канун выступления «ста прапорщиков», ста «дураков» (грибоедовские оценки деятелей декабристского движения) рождается первый полновесный шедевр русской классической литературы XIX века, – литературы, про которую принято думать, что она была преимущественно правдивой и реалистичной, то есть хорошо «отражала жизнь».
Слов нет, великая русская литература XIX века, как праведный Ной до потопа, «ходила пред Богом» и была поэтому правдивой (откуда же возьмутся фальшь, ходульность, непростота в таком присутствии). Но как, скажите на милость, могла она являться непосредственным отражением жизни, будучи в десятки раз живее, осмысленнее и правдивее, чем земная жизнь в любом реальном ее варианте?
По мнению многих, Россия, получив в декабре 1825-го отсрочку на девяносто лет, использовала это время не самым лучшим образом. Никто не обеспокоился всерьез укреплением расшатавшихся государственных основ – лучшие силы страны ушли на литературную, театральную и т. п. деятельность.
С этими «многими» (среди которых особо выделяется талантливейшая личность В. В. Розанова) согласиться все-таки невозможно. Нельзя доказать, с одной стороны, что из Гончарова или Тютчева получились бы сколько-нибудь дельные капитан-исправники. С другой стороны, сочинение посредственной драмы «Царь Иудейский» не помешало же великому князю Константину Константиновичу успешно руководить военно-учебными заведениями России (и если кто-то показал себя молодцом в дни революции и гражданской войны, то это были юнкера и кадеты). Лучшие силы страны не распылялись в XIX веке, а спокойно реализовывали себя, выражая тем самым покорность Божьей воле, сделавшей их силами именно литературными, а не хозяйственными или политическими. Пушкин и Гоголь (как в ХVIII веке Потемкин и Суворов) служили России тем талантом, который у них был.
Другое дело, что силы худшие всегда стремились сделать из русской классики орудие борьбы против исторической России. Анекдотический пример: революционеры извлекали из готового тиража «Бесов» огаревский стишок про студента (использованный Достоевским как яркий образец лживости и бездарности агитационной противоправительственной литературы) и распространяли в качестве прокламации… Можно, пожалуй, и самого Достоевского обвинить в том, что он «не предусмотрел» и «соблазнил». А заодно уже призвать к ответу святых евангелистов, которые не предусмотрели Белинского с его развязной болтовней о Христе: «Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства» и т. д.
Борьба за культурное наследие, созданное в петербургский период русской истории, идет давно; приближается час последней битвы. Ни в коем случае не должны мы уступать великую русскую литературу врагам России, врагам Русской Церкви! «Забирайте своего Пушкина, кушайте его с маслом – у нас есть Сергий и Серафим». Вот только этого от нас и ждут.
Русская классика не забавный пустячок, не игрушка для праздных людей, забывших о долге перед родной страной. Великое искусство нельзя по произволу «создавать» или «не создавать» – эта сиятельная особа сама решает, к кому прийти и когда прийти.
«Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить, – утверждает Достоевский. – Потребность красоты <…> неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете». Прекраснейшие вещи, вполне вероятно, существуют на Юпитере, но мы ничего о них не знаем, и потребность в этих вещах надежно разлучена с человеком. Мы не способны нуждаться в том, чего нет в нашем внутреннем опыте.
«Космос первее Хаоса». Красота появилась на земле раньше человека, и только для человека существует на земле красота.
Сегодня мы с вами особенно сильно нуждаемся в красоте, нуждаемся в целительном, утешительном воздействии высокого искусства, но скаредная эпоха предлагает нам все каких-то неудобочитаемых авторов: Вик. Ерофеева, Пьецуха, поэта Кривулина… Очень трудно становится в России с красотой.
И если бы не классическая русская литература XIX века, свалившаяся на наши глупые головы невероятным подарком, впору было бы действительно «не захотеть жить на свете».
Может быть, порыв декабристов и был прежде всего направлен (конечно, на подсознательном уровне) против пробуждавшейся великой литературы: отменить, раздавить в коконе, сделать все заново и как у людей – «не хуже, чем в Польше». И если это так, то пьеса Грибоедова не просто оказалась случайно первой ласточкой, сделавшей нам весну, но и поставила заблаговременно жирный крест на всей затее бестужевых и рылеевых. Декабристы опоздали. В главном они опоздали. Великая литература уже была в декабре 1825-го, уже поднялась на крыло.
О Грибоедове трудно говорить. Наверное, Грибоедов не самый великий русский писатель, но среди великих русских писателей он, конечно же, самый несообщительный, самый герметичный. Достоевский
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




