Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 55
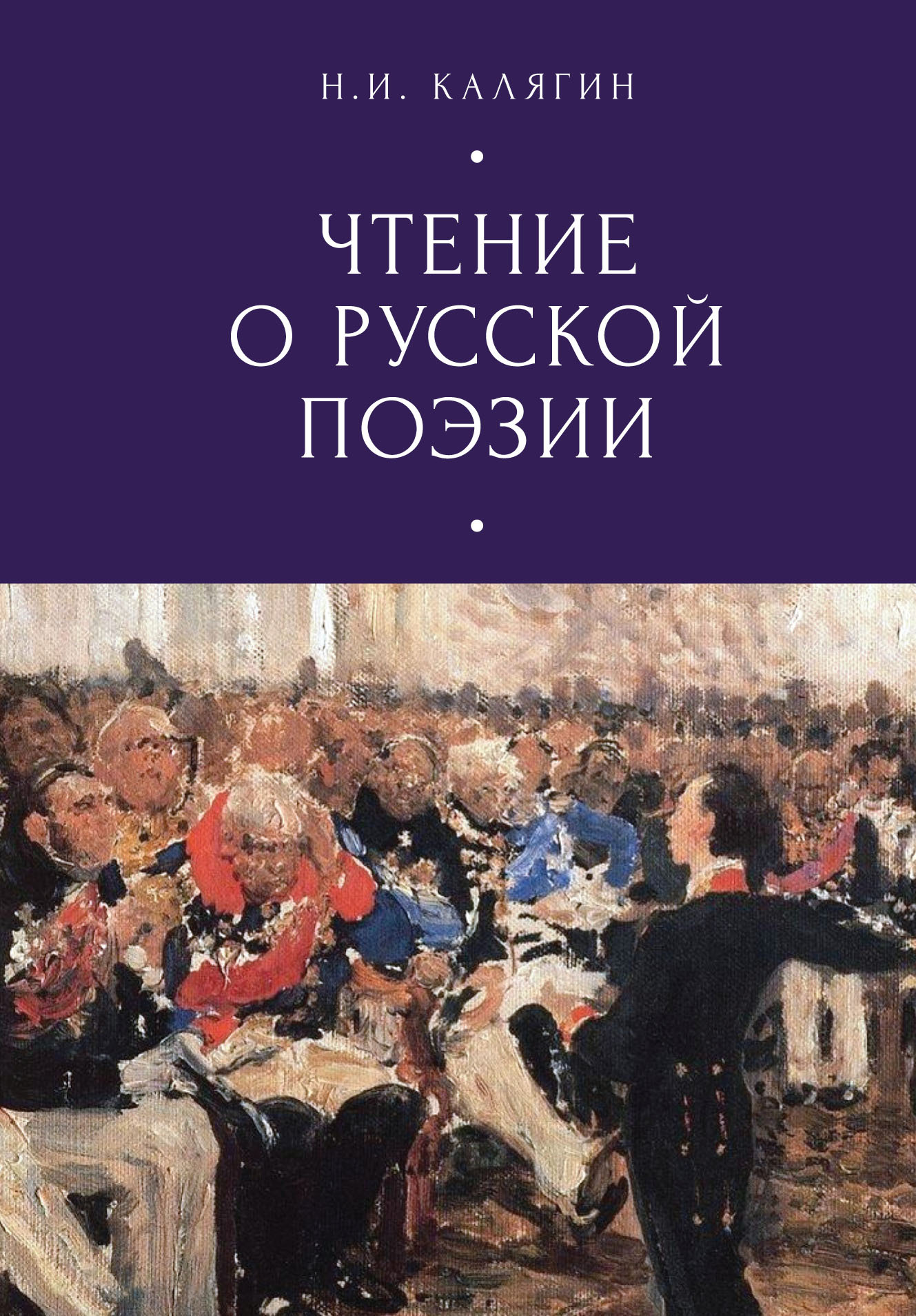
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
Переписка с Гнедичем, относящаяся к этим «годам учения» (между 1805 и 1813), является сегодня едва ли не самой интересной частью литературного наследия Батюшкова. Изящество, трезвый ум, россыпи дельных и тонких замечаний, касающихся технической стороны поэтического искусства… Рядом с письмами собственные достижения Батюшкова в поэзии за эти годы выглядят более чем скромно: в год он пишет одно-два стихотворения – пишет с усилием, которое очень заметно при их чтении и которое иногда вознаграждается двумя-тремя удачными строчками. Складывается впечатление, что Батюшков – прирожденный аналитик; синтетическая, творческая его способность была не так велика. При малой продуктивности таланта, при высочайшей требовательности к себе творчество стало для Батюшкова добровольным мученичеством. Огромный критический потенциал, как кислота, разъедал дотла те крохи непосредственной поэзии, которые способна была произвести муза Батюшкова.
Считается, что Батюшков многолетним самоистязанием добился-таки высшей гармонии и стал непосредственным предшественником Пушкина в русской поэзии. Так В. Вейдле писал в одной из последних своих книг, что, мол, Пушкин так богат (признанием, в первую очередь), а Батюшков такой бедняк, – простая справедливость требует, чтобы батюшковский приоритет был наконец признан официально или, лучше сказать, всенародно. Должны мы все не забывать, что это батюшковский стих принес Пушкину и радость максимальной самоотдачи, и всемирную славу.
Рассуждения Вейдле, «слишком человеческие» по чувству (каждому приятно восстановить справедливость и одарить бедняка – особенно так за чужой счет), и по сути своей вызывают тягостные сомнения. Пушкин учился у многих, он не гнался никогда за лаврами первооткрывателя. Он двигался по столбовой дороге, густо забитой людьми и экипажами, и к двадцати семи годам обогнал всех на этой дороге. В самом начале пути приходилось ему, наверное, и у Батюшкова чему-то учиться. Но дело в том, что батюшковские стихи, написанные в силу пушкинских (таковы, по общему мнению, два произведения Батюшкова: «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» и особенно «Есть наслаждение и в дикости лесов…»), родились в Италии в 1819 году, когда Пушкиным были уже написаны «Возрождение», «К Чаадаеву», «Молитва русских», «Пробуждение» и некоторые другие стихотворения, гармония и сила которых вполне удостоверяют самодержавность юного Пушкина в русской поэзии.
Помня о том, как внимательно относился Батюшков к творчеству Пушкина и как рассеянно жил Пушкин в 1819 году, можно бы, наоборот, предположить, что это батюшковская свеча, истерзанная за годы холостых усилий, чуть ли не зубами изгрызенная, все-таки вспыхнула перед концом от свечи Пушкина.
Но скучно заниматься этим. В действительности совсем не важно, где именно брал Пушкин свое добро. Как любил говорить П. Валери, лев состоит из съеденных баранов. Подражать барану, испытывать баранье влияние, питаться бараниной – три разные вещи, но как трудно бывает различить их! С большой осторожностью следует подходить к вопросу о «заимствованиях» и «влияниях» в искусстве.
Если бы все так просто обстояло в этом непростом и деликатном деле, как думают многие (один писатель «открыл», другой – «украл» и прославился), то почему мы-то с вами до сих пор ничего не крадем? Пушкин обобрал Батюшкова – мы же и самого Пушкина можем обобрать! Отбросим постыдную лень. Подарим России двадцать новых классических авторов.
А если все не так просто, если из личного бесстыдства и чужих строчек ничего прочного в поэзии соорудить нельзя – к чему тогда заводить этот тяжелый разговор о приоритетах?
Об отношении Пушкина к поэзии Батюшкова лучше всего судить по собственным его заметкам, сделанным на полях 2-й части (стихотворной) «Опытов в стихах и прозе». Как старый арзамасец и как добрый человек, чуткий к несчастию ближних, Пушкин в 1830 году должен был относиться к Батюшкову с особенным участием. Только что он посетил дом, специально нанятый для Батюшкова в Грузинах, отстоял там всенощную, пытался заговорить с больным поэтом – и Батюшков не узнал Пушкина. Эта встреча «гениев Арзамаса», первая после двенадцатилетней разлуки, оказалась последней их встречей. Конечно, Пушкин был потрясен ею.
И вот он открывает книгу Батюшкова, испытывая грусть и некое благоговение («Увы! Бедный Йорик. Я знал его…»), перелистывает, пишет на полях одобрительные отзывы: «прекрасно», «какая гармония», «прелесть», а под каким-то особо несуразным произведением заботливо помечает, что оно «писано в первой молодости поэта». Постепенно атмосфера сгущается. Давно замечено, что стихи, создание которых оплачено трудовым потом, мозолями, болью в пояснице, требуют сходной оплаты и от читателей своих. Порок же лицемерия не был присущ Пушкину (равно как и добродетель терпения). Буквально видишь, как он понемногу закипает, как испаряется его напускное благодушие. А стихи тянутся и тянутся, царапают и царапают слух… Нет, Пушкину не нравится то, что он читает, и ничего с этим поделать уже нельзя. «Дурно», «дурно», «какая дрянь», «как плоско!» – аттестует он в раздражении несколько стихотворений подряд и наконец, отчеркнув в произведении «Ответ Г-чу» два стиха:
Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает, —
помещает тут же на полях их прозаический перевод: «Батюшков женится на Гнедиче!»
Молния пушкинского остроумия, полыхнув, разряжает атмосферу: Пушкин продолжает делать пометки, доводя начатое мероприятие до конца, – но за его оценками («прекрасно» и «прелесть» вперемежку с «дурно» и «гадость») чувствуется уже отчужденность, сквозит душевный холодок.
Поэт, который одиннадцать лет копит силы и стихи для своего единственного сборника, потом еще год держит корректуру, сидя в деревне, а в результате все-таки «женится на Гнедиче», – такой поэт, при всех его неоспоримых заслугах и достоинствах, не мог быть Пушкину товарищем на Парнасе. Молодость прошла. Запоздалое внимание к творчеству Батюшкова обернулось для Пушкина «схождением», явилось, по сути дела, пустой тратой времени.
Писатель Ю. Карабчиевский, автор известной книжки «Воскресение Маяковского», обнаруживает у своего героя странную психологическую черту – неспособность увидеть в готовом стихе то, чего он (Маяковский) туда не вкладывал. Карабчиевский объясняет этот дефект отсутствием у Маяковского чувства юмора.
Между тем, «дурная пародийная двусмысленность» многих стихов Маяковского и их принципиальная конструктивность (о которой Карабчиевский пишет в других местах своей книги) – две стороны одной медали. Слово мстит за насилие над собой. «Выматывающая силы и нервы борьба со стихом», желание навязать уступчивой русской речи свою волю, добиться того, чтобы она, проклятая, перестала выражать то, что в нее вложено от века, а выразила бы то, что требуется в настоящую минуту сочинителю, – все это и предопределило жизненную неудачу Маяковского, а не недостаток у него чувства юмора. Блок вовсе не имел этого чувства (и в «Воскресении Маяковского» этот
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




