Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 45
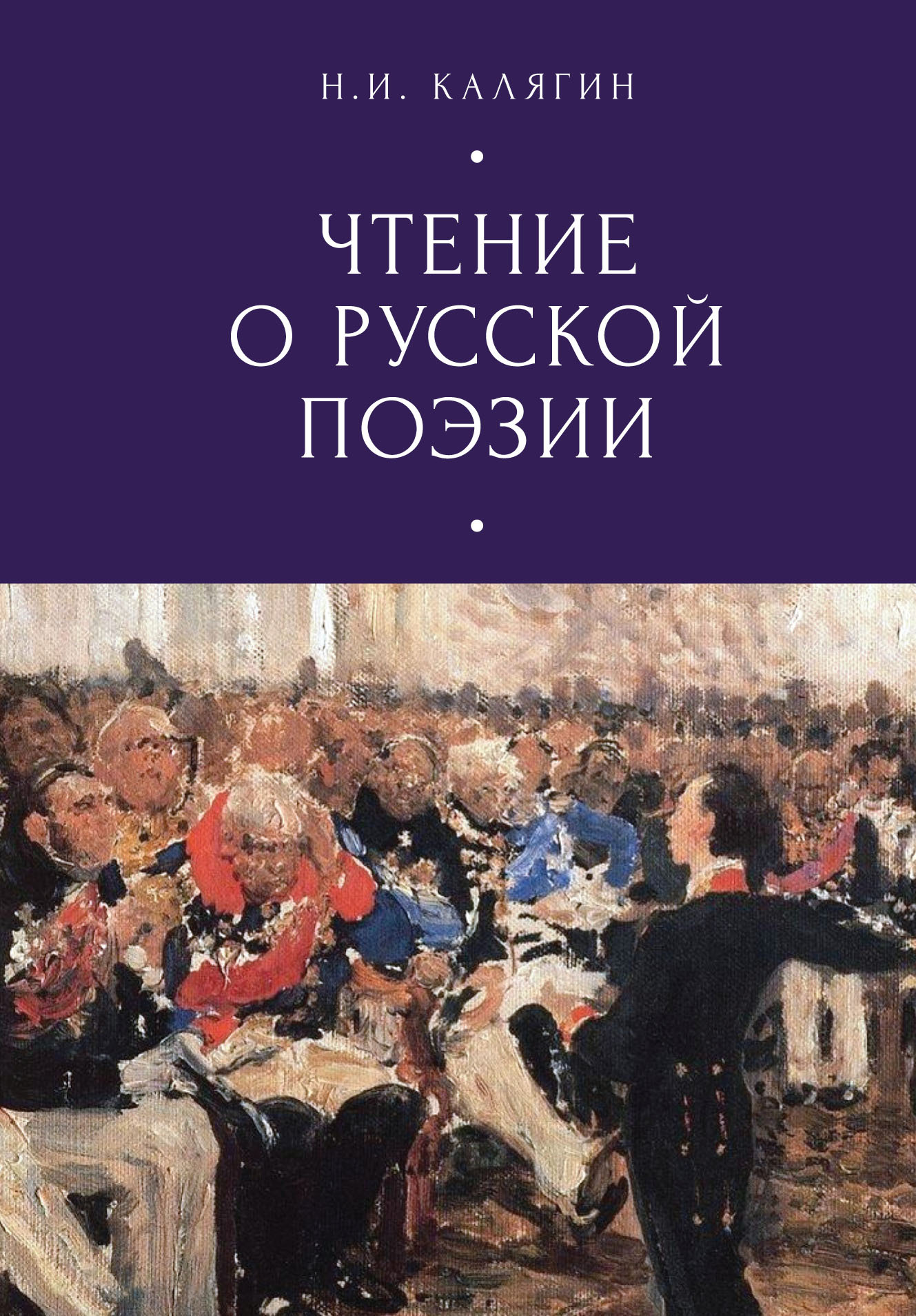
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
Позже Гоголь вспомнит эту святую и страшную минуту («в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек») и именно в ней увидит залог будущего преображения и воскресения России.
И литература тогда (последний раз, может быть, в русской истории) была на высоте момента – вся, словом и делом. Денис Давыдов и Жуковский, Катенин и Вяземский, некстати захворавший Батюшков, семнадцатилетний Грибоедов – все одушевлено, все рвется в действующую армию.
Вы помните, текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас… —
писал Пушкин в предсмертном, прекрасном своем стихотворении, в котором чувства юного школяра, чувства великого народа сливаются настолько, что их уже не различить.
«Вся Россия – один человек».
В 12-м году всероссийскую славу приобрели два поэта, сумевших послужить общему делу именно своими стихами, словом своим. Но если «Певец во стане русских воинов» Жуковского – произведение все-таки корпоративное, отразившее (как и «Слово о полку», но только с меньшим совершенством) дружинный дух – дух вождей армии, дух офицерского корпуса, – то басни Крылова проникали с одинаковой легкостью в царский дворец и в крестьянскую избу, в кабинет ученого и в военную палатку. Они цементировали русское общество. Страна оживала от столетнего духовного обморока, множеству русских людей Крылов помог найти кратчайшую дорогу к себе, к своей заповедной русскости.
Заговорив о Крылове, мы начинаем отходить от темы 12-го года. Хотя басни Крылова воевали с французами не хуже какого-нибудь Н-ского корпуса, хотя Кутузов в самом деле читал своим офицерам «Волка на псарне» после сражения под Красным, читал по рукописи и при словах:
Ты сер, а я, приятель, сед, —
снимал картуз с седой головы, – но Крылов стал Крыловым задолго до войны, принесшей ему всенародное признание. «Ворона и Лисица», «Лягушки, просящие Царя», «Музыканты», «Пустынник и Медведь» – все это написано в мирной обстановке.
Мы привычно говорим о том, что победа в войне с Наполеоном дала мощный толчок развитию национальной литературы, и редко вспоминаем о том, что в 1812 году приходилось в отчаянной борьбе спасать наличную литературу, в которой существовали уже такие капитальные ценности. «Смерть за отечество отрадна и славна», и благословен любой дикарь, защищающий вооруженной рукой свой очаг и могилы предков, но слава русских ратников, не пустивших цивилизованных живодеров, мастеров штыкового боя и кучной артиллерийской стрельбы, в тихую квартиру петербургского библиотекаря Крылова, – эта слава, конечно, благороднее и законченнее. Совершеннее.
Пушкин назвал Крылова «представителем духа своего народа». Нешуточный отзыв, требующий от нас предельной собранности и серьезности. Попробуем?
Детство Крылова было опалено пугачевщиной. О мужестве его отца, руководившего обороной Яицкого городка, мы вспоминали на прошлом чтении. Пушкин сообщает в «Истории Пугачевского бунта», что Пугачев, взбешенный неудачей очередного приступа, «поклялся повесить не только <…> Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге». Будущий баснописец, таким образом, не только перенес вместе с матерью все ужасы шестимесячной осады Оренбурга, но и был в четырехлетнем возрасте заочно приговорен к смерти. Известно, что у Пугачева в этом отношении («повесить») слово с делом не расходились. Вышло, однако, по-другому. Пугачев сгинул, мальчик остался жить.
Чудом уцелев в огненной пещи русского бунта, семья Крыловых перебирается на жительство в тихую Тверь, и вот здесь ее подстерегает несчастье, тоже тихое, обыденное, непоправимое, – смерть отца.
«Горька судьба поэтов…» – всех без исключения, но судьба Крылова складывается на заре его жизни как-то особенно горько. Раннее сиротство, неудача с пенсией (Андрей Прохорович, добровольно расставшись с военной службой, на гражданской просто не успел ничего выслужить), беспросветная нужда. Служба в канцелярии с десятилетнего возраста, глухая провинция, чиновники – персонажи капнистовской «Ябеды». Живой, любознательный ребенок на побегушках у этих чиновников…
На таких картинах выросла у нас во второй половине ХIХ века целая литература, и требуется немалый труд, требуется настоящее духовное мужество, чтобы обуздать воображение, этой литературой распаленное, и не унестись мечтами в тот волшебный край, где детство Крылова, детство Ваньки Жукова и «Детство» Максима Горького сольются воедино. Где жизнь нескольких поколений православных русских людей представится нам в виде лубочной мелодрамы, которую две-три марионетки («Гриша Добросклонов» и «Салтычиха») ломают на фоне задника, расписанного под цвет «свинцовых мерзостей русской жизни».
Есть, однако, авторы более древние, чем Максим Горький, есть авторитеты более надежные. Есть царь Давид, сказавший: «Юнейший бых, ибо состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже семени его просяще хлебы». Есть Промысл, есть предусмотренное Им честное вдовство, честное сиротство. И есть Россия – страна великого страдания и великой святости, где жизнь очень часто бывала трудной и горькой, законы – суровыми, а люди зато – добрыми, поразительно чуткими к чужому горю, талантливо сострадательными. Где во времена Крылова еще твердо помнили о том, что грехи роняют род, а не смерть старшего в роде, не отсутствие денег или сильной протекции.
Род Крыловых именно после несчастья резко пошел вверх, дав России неподражаемого поэта и мудреца.
«…Не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Андрей Прохорович и Мария Алексеевна Крыловы были – праведники не праведники, но хорошие русские люди, каких много было у нас во все времена, и Бог не оставил их детей, о чем они, конечно же, и просили в своих молитвах, на что и надеялись.
И здесь не обошлось без Львовых.
Федор Петрович увез способного мальчугана из Твери в Петербург, в доме у Николая Александровича Львова Крылов первое время жил. Обнаружился литературный талант (сам Бецкой одобрил какой-то ученический перевод, выполненный тринадцатилетним Крыловым), начали завязываться знакомства в театральном и журнальном мире, отыскался заработок… Уже через год Крылов смог выписать к себе младшего брата, затем и мать. Талант оказался скромным, но достаточно прочным и продуктивным: театральные сочинения, сатирическая проза, стихи – все это отвечало требованиям рынка, обеспечивало стабильное и независимое существование. Так оно и тянулось год за годом – десять лет, пятнадцать лет… Все это время литературная известность Крылова достаточно велика, прочна, и только одной мелочи ему не хватает – своего читателя, читателя-друга.
Век Просвещения получил в революционном Париже неисцелимую рану. Конвент перевел просветительскую сатиру в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




