Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 44
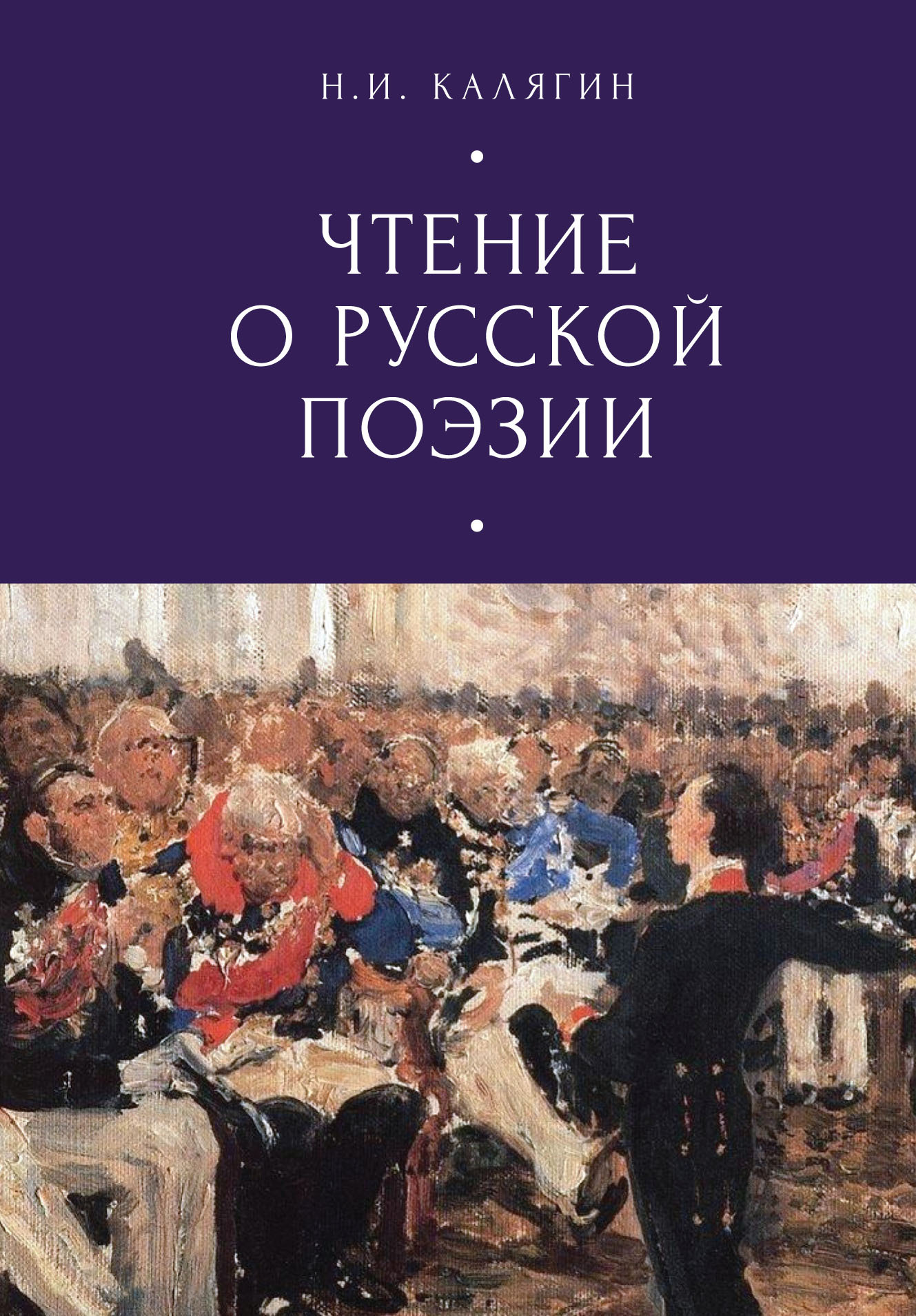
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
«Он (Наполеон. – Н. К.) движется на древнюю Москву, но под стенами древней Москвы его ждет суровый русский мужик. Это дикий и непреклонный воин! Он бесстрашно ожидает неотвратимую лавину. Он верит в снежные тучи своей зимы. Безбрежная пустыня, ветры и метели уберегут его; Воздух, Огонь и Вода помогут ему. Кто они? Три грозных Архангела…» и т. д. и т. п.
Все это очень смешно. Готовясь к вторжению в Россию, Наполеон наверное уж заглянул в какое-нибудь общедоступное пособие по физической географии и выяснил из него, что поздней осенью в Подмосковье бывает холодно. Русский человек так же чувствителен к низкой температуре, как и нерусский, и, оказавшись на морозе без еды, теплой одежды и ночлега, погибает так же быстро. Заморозить свою армию (завести ее в безводную пустыню, утопить в болоте) не есть какая-то доблесть или редкость – посредственные полководцы обычно так и поступают. Десятки примеров тому можно найти уже у Плутарха.
Холода более сильные, чем ударившие в России в октябре-ноябре 1812 года, не помешали Наполеону закончить в свою пользу Эйлавскую кампанию, как не помешала жара дикому русскому мужику графу Суворову разбить в Италии несколько французских армий. Да и Кульм, Лейпциг, шестидневный поход на Париж – все это происходило в теплую погоду.
Тем не менее идея «настоящего русского мороза» плотно, как пробка, сидит в общеевропейском мозгу. И будет сидеть там до конца, потому что под этой пробкой запрятана истина, с которой невозможно согласиться, которую нельзя вынести. От которой можно сойти с ума.
Гордый Запад отчасти по принуждению (сила солому ломит), но отчасти и добровольно (больно уж xopoш Жених, сын погибели, диктующий по пять писем за один присест, берущий в свидетели своих баталий тысячелетия на вершинах пирамид) заневестился-таки под старость, склонил-таки шею под ярмо царской власти. И что же?
Народец Пятниц, только-только пробужденный к исторической жизни человеколюбивым Робинзоном-Лефортом, только-только получивший от французских энциклопедистов первый похвальный лист за успехи в преодолении своей варварской девятисотлетней христианской культуры, – вот эти слюнявые slavs поднялись как один человек в своем азиатском захолустье, одолели Жениха и повернули вспять историю (перед духом которой, воплотившемся в Наполеоне, склонились ведь и Гëте, и Гегель).
Горячка первой любви фригидных западных сердец была потушена – и так пренебрежительно быстро, легко! Просто нашлепали по заднице и поставили в угол злых мальчишек, вздумавших поиграть во всемирную монархию. Императорские орлы, пересчитанные на верхушках пирамид тысячелетия, само «солнце Аустерлица» – все отобрали, изломали и закинули на мусорную кучу. (Республики, конституции, парламенты – пожалуйста, устраивайте какие хотите, но Царь на земном шаре может быть только один, и он уже есть – уже помазан на царство в Успенском соборе.)
И европейцы, опамятовавшись, отрезвившись, насмерть перепугавшись, щелкнули каблуками в первую минуту, решили, что эти slavs сами будут, раз уж им посчастливилось… Нет. «Не нам, не нам, а имени Твоему. Живите как привыкли».
Сами не хотят. Просто не дают шалить.
Вот с этой минуты и начинается ненависть Запада к России – та, основанная на разнородности духовного опыта (оторопь Хорька перед Слоном: «Сколько же птичьего мозгу выпивает за ночь эта туша?!»), приправленная страхом упорная ненависть, о которой Пушкин устало напишет в 1831 году как о чем-то очень привычном:
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
В наши дни журнал «Guten Tag» благодушно напоминает русскому читателю о том, что Россия в пушкинскую эпоху заслуживала ненависти и что ей «в европейском контексте был присвоен эпитет “жандарм”».
Как говорится, с правдой не поспоришь. Россия – жандарм, который слишком долго маячил на европейском толкучем рынке, напоминал о скучных и неприятных правилах, установленных отсутствующим Хозяином, отмахивался от реальной выгоды, лез на ножи и под выстрелы ради абстрактных принципов («легитимность», «ключи от Вифлеемского храма»), мешал добрым людям жить, поживать, наживать… Мешал опуститься на четвереньки.
Пустое место, на которое нахлынула в 1812 году Великая армия, оказалось в очередной раз занятым.
Здесь был Серафим Саровский с его тысячедневной молитвой, был царь Александр, решивший однажды и навсегда, что почетнее ему будет затеряться песчинкой в русском море, отпустить бороду, скитаться за Уралом, питаясь печеным картофелем, чем оставаться царем в покорившейся Наполеону России; были молодой архимандрит Филарет (Дроздов), «полный замыслов и воли», и престарелый митрополит Платон, горько расплакавшийся при получении страшного известия об оставлении Москвы («Боже мой, до чего я дожил!»), но оставшийся в Вифании, вблизи неприятельских разъездов, на все время пребывания французов в первопрестольной и доживший-таки до ее очищения; были генерал Балашов, посланный к французам парламентером 13 июня и предсказавший Наполеону судьбу Карла XII, и капитан Головин, услыхавший в японском плену в августе 1813 года о том, что Москву «русские в отчаянии сожгли и удалились, а французы всю Россию заняли по самую Москву», и от души посмеявшийся вместе с товарищами над такой выдумкой изобретательных японцев; были здесь русские дети – паж Баратынский, шестилетний Иван Киреевский, потерявший в 12-м году отца (он умер, заразившись тифом в одном из госпиталей, которые устраивал на личные средства для гуртов раненых и обмороженных французских пленных), девятилетний Тютчев, сохраняемый добрыми родителями в Ярославле, восьмилетний Хомяков, дом которого сгорел в московском пожаре… Был здесь Кутузов – отставной генерал, выехавший в мае 12-го года в свое бездоходное имение Горошки в надежде поправить хозяйство и хоть как-то залатать зияющие бреши семейного бюджета. Мало кто помнит у нас (в школе таким пустякам не учат), что Кутузов задолго до войны 12-го года был смертельно ранен – дважды, с промежутком в двенадцать лет. Два раза турецкая пуля проделала невероятный путь из левого виска Кутузова в правый – «навылет в голову позади глаз». Врач, наблюдавший быстрое выздоровление Кутузова после второго ранения, в 1787 году, написал в медицинском заключении: «Надобно думать, что Провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного».
Страна поднялась. Сто лет обезьянничанья слетели с России как отсохший струп – и открылась молодая, чистая кожа. Помещики и их крепостные, шишковисты и карамзинисты, петербургские чиновники и московские просвирни – все вдруг
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




