Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 37
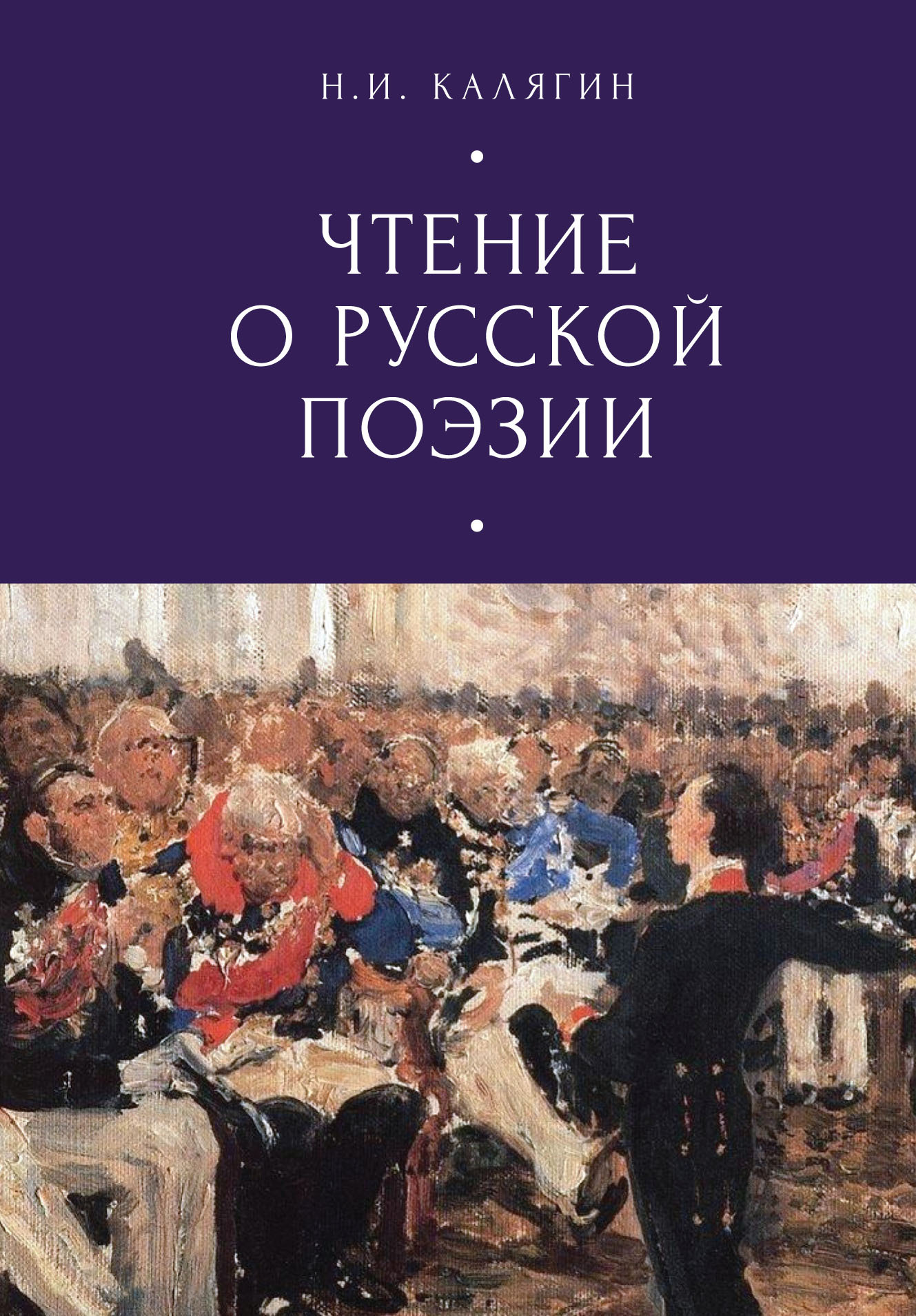
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
Другое дело князь С. А. Ширинский-Шихматов. То был кровный враг, член первого разряда «Беседы любителей русского слова», и с ним перестали церемониться задолго до смерти.
Шихматов начал печататься в 23 года, а уже в 26 лет стал членом Российской академии – быстрый успех. Знаменитый адмирал Шишков (о нем, как и о созданной им «Беседе», весь разговор впереди) «открыл» молодого поэта и стал на долгие годы почитателем и покровителем его таланта. Покровительство в данном случае было у места. Сын отставного поручика (почти как князь Мышкин у Достоевского), князь Ширинский-Шихматов был небогат, болезненно застенчив, не имел связей в литературном и придворном мире. Шишков ввел его в общество (А. Измайлов посвятил этому событию отдельную басню, довольно злобную, под названием «Шут в парике»), выхлопотал и пенсию от Императорского Двора в полторы тысячи рублей.
Природная нерасположенность карамзинистов к Шихматову была этим покровительством усилена до крайности. Александр Семенович Шишков, угрюмый славенофил, являлся еще с 1803 года главным врагом карамзинистов, но заслуги перед родной страной, соответствующий заслугам чин, личное благородство – все это затрудняло применение против него обычных приемов литературной борьбы. Наглая фамильярность и зубоскальство, замалчивание и апелляция к городовому были здесь одинаково неудобны, не подходили, так сказать, к лицу… Безвестного, нечиновного Шихматова, прослужившего четверть века простым воспитателем в Морском кадетском корпусе, нетрудно было залягать – и тем самим огорчить, потревожить неуязвимого Шишкова.
Шихматов, болезненно переносивший нападки карамзинистов, довольно рано оставил литературу и, имея вообще склонение к духовной жизни, принял монашество. Умер он в Афинах (где был настоятелем посольской церкви) в один год с Пушкиным и Дмитриевым. Архимандрит Аникита – заметное, уважаемое имя в истории Русской Церкви. С ним связано, в частности, возобновление Старого Руссика на Афоне.
Литературную известность принесли Шихматову его лиро-эпические поэмы. «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» – самая ранняя из них и наиболее известная (по крайней мере, вызвавшая наибольшее число пародий и эпиграмм). Вот маленький отрывок из этой поэмы, живописующий поединок русского ополченца с сарматом у стен Москвы:
Пылая мужеством обильным,
Алкая славы и хвалы,
Среди курения и мглы,
Спешит сразиться сильный с сильным.
Победой увенчать чело,
Врага низвергнуть в мрачность гроба.
Стеклись, сразились, пали оба,
И солнце жизни их зашло.
Уровень версификационного мастерства Ширинского-Шихматова исключительно высок. Современники прозвали поэта «Ширинским-безглагольным», поскольку он, создавая большие эпические полотна, умел обходиться вовсе без глагольных рифм. («Как жалко мне, что он частей и прочих речи, //Как и глаголы, не щадил», – писал по этому поводу Вяземский.)
Трудно представить, однако, что мастерски написанные поэмы Шихматова обретут когда-нибудь вторую жизнь, снова окажутся в широком обращении. Им недостает рукотворности, художественного беспорядка. Шихматов прирожденный лирик, сильный лирик, но однообразный – это какой-то педант в лирике. Ровный накал стихов Шихматова сообщает его творчеству колорит искусственности, безжизненности.
(Давно замечено, что поэты «Беседы», известные всему свету как ретрограды и обскуранты, бессильные враги благих преобразований Карамзина, были в своей поэтической практика гораздо ближе к нарождавшемуся на Западе романтизму, чем их противники. Безусловно, это говорит о талантливости беседчиков, об их художественном чутье, но еще больше – о той фантастической, предгрозовой духовной атмосфере, которой «очревател» на рубеже столетий официальный Петербург и которая отразилась законным порядком в деятельности полуофициальной «Беседы любителей русского слова». Молодые же карамзинисты Петербурга не любили, Москву презирали, с английским предромантизмом знакомы не были, германской философией не интересовались – высшим авторитетом в литературе еще долго оставался для них покойный Вольтер.)
Творчество Шихматова целиком принадлежит предромантизму. Очевидные для нас сегодня недостатки его поэм (перенапряженность, условная психология героев) как раз и были для своего времени серьезным художественным открытием, прорывом к новой, романтической поэзии. Этим и объясняется их успех у читателя 10-х годов. Но уже к середине 20-х годов на гребне литературной моды оказываются поэмы Пушкина и Козлова, в которых те же недостатки сгущены, очищены от посторонних примесей, возведены в степень нового стиля. Поэмы Шихматова стремительно и бесповоротно устаревают.
«Беседа» была обществом ретроградным, охранительным, то есть по определению неагрессивным. Инициатива в литературной борьбе принадлежала с самого начала карамзинистам, беседчикам оставалось только огрызаться. Все же и у «Беседы» имелись свои поэты-сатирики. Среди них очень заметен князь Д. П. Горчаков.
Крупная личность и крупный характер, сформированный веком Екатерины, храбрый офицер, лично известный Кутузову и Суворову, отставной коллежский советник, мирно скончавшийся в Москве за год до событий 14 декабря, – классицист, член академии, религиозный вольнодумец и суровый патриот. «Русский Ювенал».
Стихи Горчакова предназначались узкому кругу знатоков и единомышленников. Все, что размещалось за пределами этого избранного кружка (печать, морочащая олухов; олухи, способные восторгаться слащавой и мутной «коцебятиной»), было Горчакову малосимпатично и просто неинтересно.
Автор крылатых слов:
И наконец я зрю в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной! —
не мог соблазниться участием в начинавшемся на Святой Руси «литературном процессе».
Библиография печатных трудов Д. П. Горчакова вполне уникальна: она включает в себя как раз oдну книгу, одну-единственную, изданную внучкой поэта в 1890 году. Но и это издание, по авторитетной оценке Ермаковой-Битнер, не имеет «никакой научной ценности». Проблематична и научная ценность будущих изданий Горчакова (если они будут, конечно): архив поэта давно сгорел, рукописи погибли… Певец, «презревший печать» (слова Пушкина о князе Горчакове), почти не оставил материальных следов в литературе, промелькнул в ней какой-то тенью.
И в одном, по крайней мере, отношении эта тень была черной: известно, что современники долго путались в вопросе, кому же все-таки принадлежит авторство пресловутой «Гавриилиады» – двадцатилетнему шалопаю Пушкину или шестидесятилетнему члену академии Горчакову (бывшему, кстати сказать, почетным гостем на публичном экзамене в Лицее 8 января 1815 года – наряду с Державиным)? Советское литературоведение взлелеяло даже мечту о двух «Гавриилиадах», из которых вторая, горчаковская, просто затерялась до времени.
Ключом к религиозному безмыслию князя Дмитрия Петровича могут служить следующие его строки:
Мы слишком в жизни сей страдали,
Чтоб мучить нас еще в другой.
Поэтические
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




