Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология Страница 34
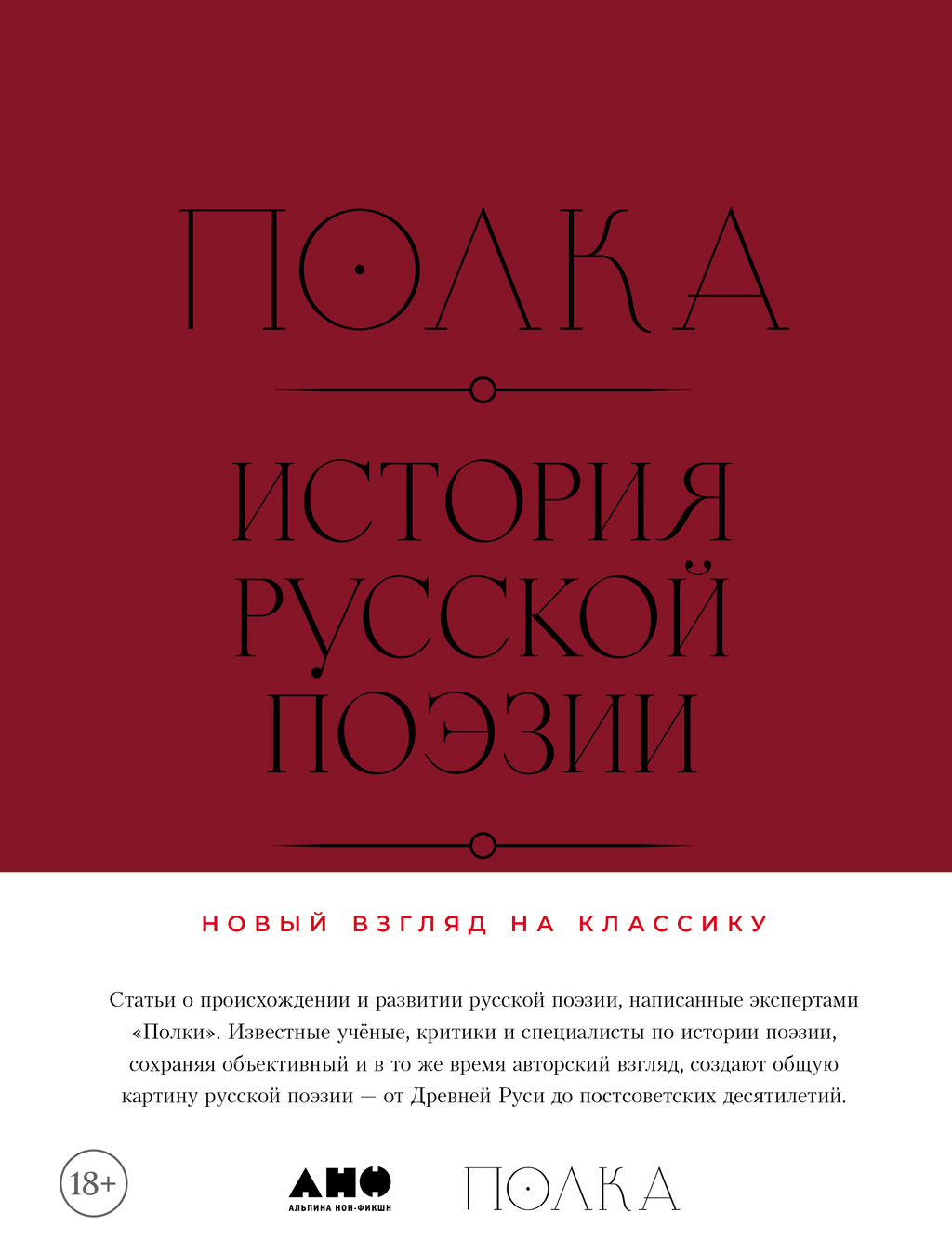
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Коллектив авторов -- Филология
- Страниц: 218
- Добавлено: 2025-09-02 00:05:21
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология» бесплатно полную версию:В это издание вошли статьи, написанные авторами проекта «Полка» для большого курса «История русской поэзии», который охватывает период от Древней Руси до современности.
Александр Архангельский, Алина Бодрова, Александр Долинин, Дина Магомедова, Лев Оборин, Валерий Шубинский рассказывают о происхождении и развитии русской поэзии: как древнерусская поэзия стала русской? Откуда появился романтизм? Что сделали Ломоносов, Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский, Ахматова, Бродский и Пригов? Чем объясняется поэтический взрыв Серебряного века? Как в советское время сосуществовали официальная и неофициальная поэзия? Что происходило в русской поэзии постсоветских десятилетий?
Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология читать онлайн бесплатно
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
В 1830-е годы Пушкин будет экспериментировать с библейскими сюжетами и традицией духовной поэзии в таких стихотворениях, как «Странник», «Мирская власть», «Напрасно я бегу к сионским высотам…».
Лев Бакст. Эскиз декорации к опере «Борис Годунов». 1913 год{67}
Интерес к историческим сюжетам, о которых тоже говорили и Кюхельбекер, и Рылеев, отразился в трагедии «Борис Годунов», которую Пушкин написал в 1825 году в Михайловском. «Борис Годунов» — драма, ориентированная на вновь открытого романтиками Шекспира, написанная в основном белым пятистопным ямбом с вкраплением прозаических сцен, сочетающая очень разные стили. В «Годунове» мы видим мастерскую работу с высоким, славянизированным стилем в монологах Бориса или Пимена — а с другой стороны, «матерную брань» на разных языках в репликах капитана Маржерета и сниженные комические реплики в знаменитой сцене в корчме на литовской границе. Пушкин берёт эпизод из Смутного времени, важного для исторической памяти в начале XIX века (в эпоху Наполеоновских войн актуализировалась параллель между 1612 и 1812 годами). Он внимательно прорабатывает материал с опорой на «Историю государства Российского» Карамзина, проблематизирует исторические события в этическом ключе, делает центральных персонажей неоднозначными и сложными. Всё это приносит трагедии огромный успех в Москве осенью 1826 года.
«Годунов» был тем текстом, с которым Пушкин возвращался в столичную литературную жизнь после михайловской ссылки. Удостоив Пушкина аудиенции в Кремле 8 сентября 1826 года, Николай I лично объявил ему о прекращении ссылки и возможности снова жить в столицах, а также обещал особые цензурные условия — печатать произведения в обход обыкновенной цензуры, «с дозволения правительства», то есть с личного его, императорского, позволения. В сентябре 1826 года Пушкин в нескольких домах и разным слушателям читал ещё не опубликованную трагедию — и наибольшее впечатление «Борис Годунов» произвёл на «московских юношей», круг Веневитинова и Шевырёва. «…Мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. <…> Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину» — так много лет спустя вспоминал о чтении трагедии ещё один литератор этого круга, историк и издатель Михаил Погодин. «Высокая» историческая трагедия, каковой был «Борис Годунов», позволяла «молодым москвичам» предполагать, что Пушкин разделяет их высокие романтические и философские установки. Однако сам Пушкин был далёк от того, чтобы ограничивать себя этими жанрами и темами.
Исключительности поэтического гения, не понятого толпой, Пушкин противопоставляет другой взгляд на личность поэта: она не равна его творчеству, а поэзия не равна жизни.
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орёл.
Это разделение личности и творчества, вызывавшее недоумение у молодых «московских романтиков», позволяло Пушкину быть свободным как в жизни, так и в своих сочинениях: предаваться светской жизни и дружескому разгулу и пробовать себя в самых разных поэтических жанрах, необязательно высоких. Эти эстетические и этические расхождения с молодым поколением поэтов и критиков вызвали к концу 1820-х годов охлаждение последних к Пушкину и разочарование в нём как в «первом поэте».
Пушкин же по-прежнему экспериментировал с разными жанрами, с языком и стилем. Несмотря на постепенное охлаждение критики, он продолжал писать и печатать «Евгения Онегина»; когда его обвиняли в ничтожности сюжета и героев — написал ещё более мелкосюжетную и пародийную поэму «Домик в Коломне» (1830). Когда в критике снова возникает запрос на романтическую личность, Пушкин пишет намеренно стилизованные, экспериментальные произведения, активно работая с «чужим словом»: Болдинской осенью 1830 года он пишет «Маленькие трагедии», существенная часть которых восходит к западноевропейским источникам; сочиняет стихотворные сказки — на фольклорные сюжеты; затем пишет поэму «Анджело» (1833) на основе шекспировской драмы «Мера за меру». Критики не оценили эксперименты Пушкина по расширению поэтического языка за счёт прозаизмов[65], как это он делает, например, в знаменитой «Осени» (1833):
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
К середине 1830-х годов непонимание и разочарование критики достигает апогея: более чем снисходительно пишет о Пушкине молодой Белинский, его продолжают ругать некогда сочувствовавшие ему Николай Полевой и Булгарин. И только трагическая смерть Пушкина после дуэли с Дантесом заставляет и критику, и более широкую публику одуматься и пересмотреть своё отношение к поэту, которого уже в некрологе называют «солнцем нашей поэзии».
Алексей Наумов. Дуэль Пушкина с Дантесом. 1884 год{68}
Сходный с поздним Пушкиным путь проделал и Баратынский, которого в поздние годы тоже не жаловали критики. Ещё в середине 1820-х Баратынский старался уходить от ограниченности элегического языка, вводя в свои тексты философские темы, — как, например, в «Черепе», «Буре», «Стансах» («О чём ни молимся богам…»). Ту же тенденцию продолжает он и в текстах конца 1820-х — начала 1830-х годов, перерабатывая элегические формулы и придавая им символическое и философское значение — как в «Запустении», «К чему невольнику мечтания свободы?..» или «Фее»:
Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощён,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!
Вершина
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




