Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 22
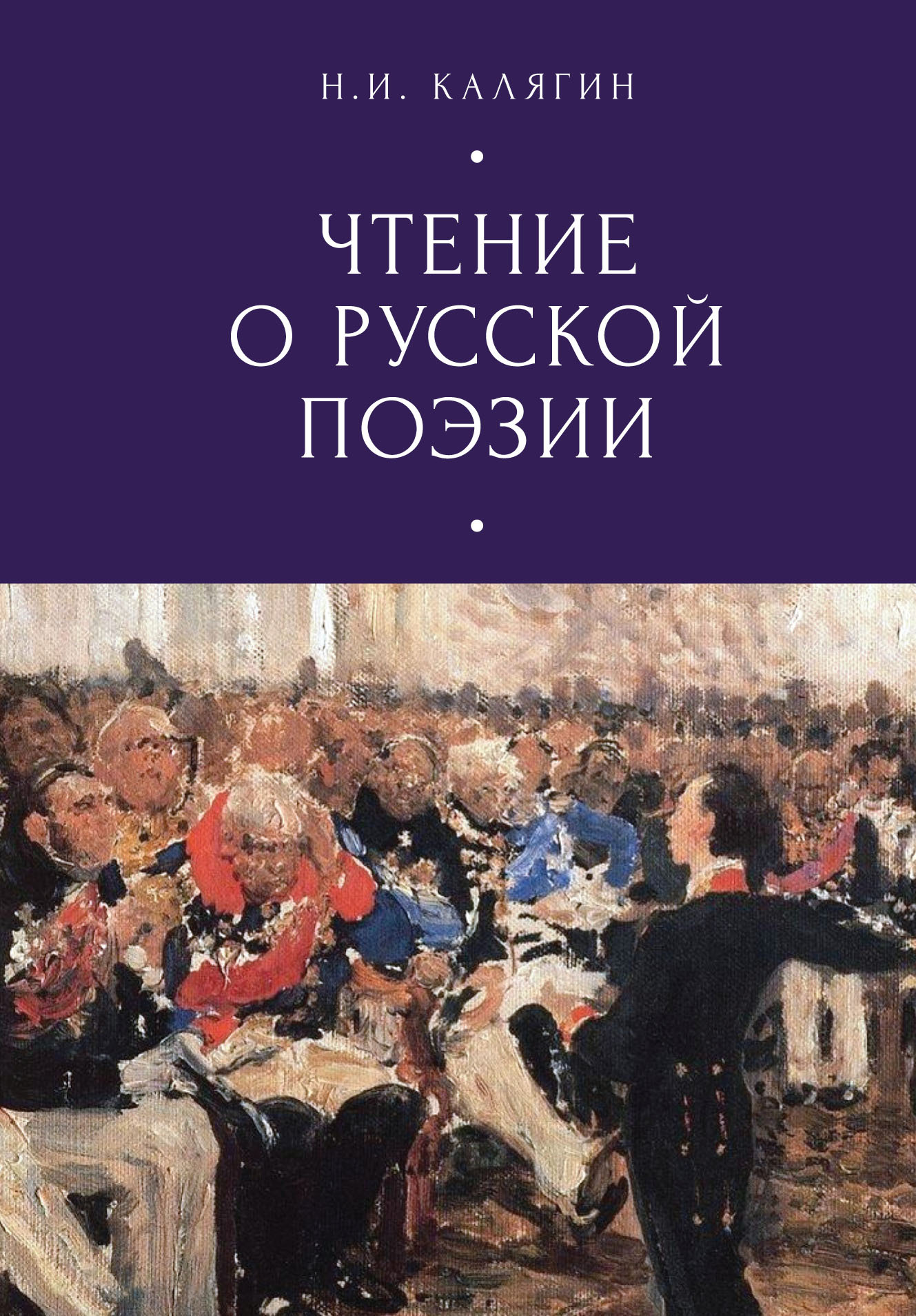
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
Каков он есть,
С руками
И с ногами,
В такой-то день намерен влезть, —
или такого:
Невесть разбойники, невесть мурзы какие,
Да только люди непростые,
И двое их всего —
То есть вот этих только двое,
А то их всех число совсем другое.
Простота и прелесть подобных стихов являются, конечно же, результатом труда – очень большого, очень напряженного и в известном смысле неблагодарного. Незаметного. «Что в них особенного? Что здесь нового?» – скажет или подумает читатель при первом знакомстве с ними.
Гораздо выгоднее для поэта отдаться вполне потоку своих чувств, пусть не отстоявшихся, незрелых, не отчетливых для самого поэта, – и затопить ими читателя, захватить, увлечь за собой… Куда увлечь? Господи, да какая разница! Разве не ясно сказано у Поэта: «…и в дуновении чумы»? Была бы только лирическая сила налицо:
В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву…
Возразить, естественно, нечего.
Разве что вспомнишь лишний раз горькие слова Баратынского: «Поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен…» – но и эти слова Баратынского лишний раз напоминают о том же: в промышленную эпоху честное служение в поэзии невыгодно.
Стихи, подобные хемницеровским, рассчитаны на идеального читателя, каких в ином поколении может вообще не родиться или родиться один-два. В таких стихах нет ничего лишнего и случайного: каждое слово, каждый знак препинания стоит на своем месте по смыслу, при этом все они строго поляризованы в поле авторской воли и служат общей идее. Единственной наградой автору за колоссальные издержки времени и материала при выработке таких стихов является их долговечность.
И не то чтобы нам не нравилась сама по себе лирическая сила. И нельзя сказать, чтоб мы считали наготу стиля, отсутствие лишних слов священной обязанностью поэта, – напротив, энергичное выражение, яркий образ сильнее и резче выступают на фоне трех-четырех бесцветных, «проходных» строк.
Но человек, слишком долго занимавшийся поэзией русских символистов или вдруг прочитавший подряд несколько больших вещей И. Бродского («Авраам и Исаак», «Большая элегия Джону Донну»), где элементарным носителем лирического заряда становится не слово, не строка, даже не строфа, а – страница, скоп, кубическая сажень стихов, каждый из которых сам по себе ничего не стоит, – такой человек с истинным удовольствием возвращается к стихам Хемницера.
Литература о Хемницере невелика. Из крупных критиков один только Н. Полевой посвятил ему отдельную статью. Белинский где-то что-то провещал полуодобрительное о «старике Хемницере». Вяземский отозвался о Хемницере так: «Согласимся, что если нравственная цель басни и постигнута им, то не прокладывал он к ней следов пиитических…» С этим как раз трудно согласиться. Для молодого Вяземского, который со слуха был романтик и дилетантски за романтизм ратоборствовал, классицист Хемницер – педант, не поэт. Но именно педанты ясно никогда не пишут. Педант может быть эпигоном классицизма, романтизма, какого-нибудь другого литературного направления – в любом случае он кропотливо имитирует «следы пиитические» и, не постигнув нравственную цель сочинения, не добравшись до тайной пружины, которой заводится весь механизм, впадает в неряшливое многословие.
А нагота стиля у Хемницера подобна сдержанности благовоспитанного человека, который, возможно, и проигрывает при первом знакомстве холодному позеру с его расчисленными жестами или задушевному молодчику, чья природная доброжелательность подогрета двумя бутылками пива, – но при знакомстве многолетнем раскрывает больше и больше привлекательные стороны своей натуры.
Чтобы нам закончить разговор о Хемницере на мажорной ноте, прочитаем вместе отрывки из бесподобного «Meтафизика». Сюжет басни вы, наверное, помните: отец посылает сына учиться за границу, сын возвращается по-прежнему дураком, но дураком ученым. И вот однажды, «в метафизическом беснуясь размышленьи», он оступается на ровной дороге и попадает в ров, в глубокую яму.
Отец, который с ним случился,
Скорее бросился веревку принести —
Премудрость изо рва на свет произвести;
А умный между тем детина,
В той яме сидя, рассуждал:
«Какая быть могла причина,
Что оступился я и в этот ров попал?
Причина, кажется, тому землетрясенье,
А в яму скорое стремленье
Могло произвести воздушное давленье,
С землей и с ямою семи планет сношенье…»
Прибегает отец с веревкой: «Я потащу тебя, держися!» – но студент, сидя на дне ямы, вступает с ним в дискуссию и хочет сначала выяснить вопрос о сущности веревки – какая это вещь? Отец,
Вопрос ученый оставляя,
«Веревка вещь, – ему ответствовал, – такая,
Чтоб ею вытащить, кто в яму попадет». —
«На это б выдумать орудие другое! —
Ученый все свое несет. —
А это что такое?..
Веревка! – вервие простое». —
«Да время надобно! – отец ему на то. —
А это хоть не ново,
Да благо уж готово». —
«Да время что?» —
«А время вещь такая,
Которую с глупцом не стану я терять.
Сиди, – сказал отец, – пока приду опять».
Что, если бы вралей и остальных собрать
И в яму к этому в товарищи послать?..
Да, яма надобна большая!
«Метафизик» веселил сердца многих поколений русских школьников.
Какие-то глубинные струны народной души – с ее здравомыслием, с ее стремлением к предметности, к конкретности духовного опыта – отзывались на эту басню (в том виде, в каком она существовала до конца ХIХ века и в каком вы ее сейчас услышали, то есть с поправками Капниста) с благодарностью.
Василий Васильевич Капнист – еще один член кружка Львова. Культурный поэт, поэт тонкий и разнообразный, достигший по меркам своего времени чрезвычайно высокого уровня версификации.
Сын героя, павшего в битве при Гросс-Егерсдорфе. Муж совета, побывавший на своем веку и губернским предводителем дворянства, и директором Императорских театров, и даже генеральным судьей Полтавской губернии. Мужественный человек, боровшийся средствами искусства против произвола судейских чиновников. Друг бедняков, создавший между прочими и такие запоминающиеся, щемящие строки:
…муж с женою,
Бежа из родины своей,
Уносят бедность за спиною,
А у груди нагих детей.
Богач! на что ты грабишь нища?..
Грек
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




