Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 21
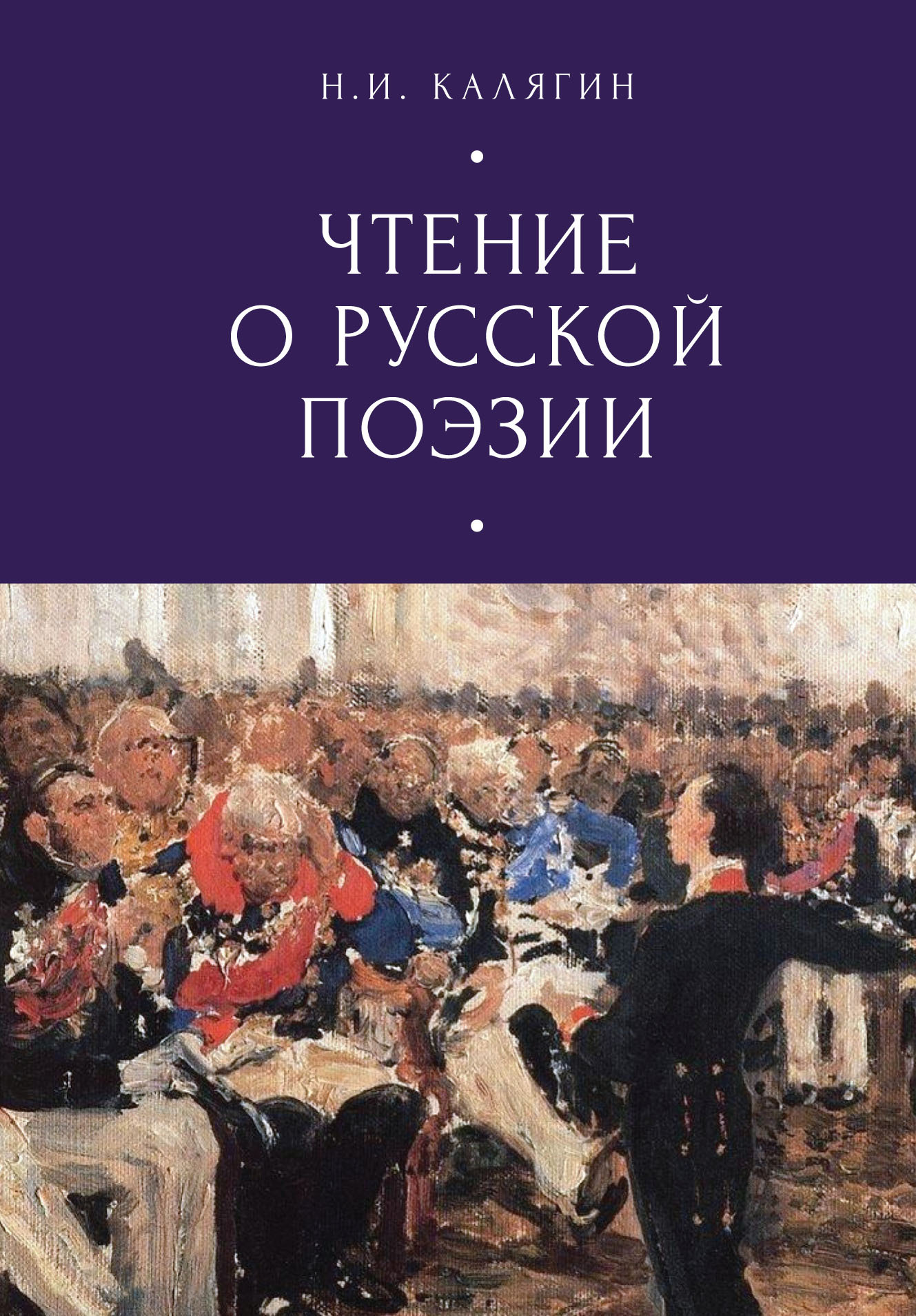
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
И здесь выплывает на поверхность одна тема – тема деликатного свойства.
В учебной литературе до сих пор чрезвычайно высоко оценивается деятельность Новикова. А судьба Новикова служит обыкновенно наглядным пособием при публичной защите тезиса: «Самодержавие – враг просвещения». В самом деле, с одной стороны мы видим развратную императрицу, которая закрепощает вольных украинских хлебопашцев и раздает награбленные деньги любовникам, с другой – благородного просветителя, который наводняет Россию книгами, заслуживает тем самым неприязнь развратной императрицы и попадает в крепость… Живая картина, контраст разительный.
Действительность, как водится, сложнее.
Культурное строительство во все времена стоило очень дорого, а успехи истинного просвещения в России ХVIII столетия очевидны. Укажем на одну только деталь: античная классика была у нас за эти сто лет переведена и издана практически полностью.
Инициатива в деле усвоения общемировой культуры исходила от правительства, шла сверху; Новиков был один из частных предпринимателей, откликнувшихся снизу на эту инициативу. Тайные цели Новикова, наверное, отличались от благородных и ясных целей правительства (он был видный масон, мартинист), но мы с вами, слава Богу, в масонские тайны не посвящены и говорить о них поэтому не будем. Известно, что Новиков в двадцать раз увеличил оборот книжной торговли в России (об этом можно прочесть в «Обозрении русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского) и приохотил нашу провинцию к беспробудному, запойному чтению, подготовив тем самым фундамент для устройства в будущем Ордена российской интеллигенции. Этой заслуги никто у него не отнимает. Но ведь не Новиков платил Баркову жалованье за его занятия Горацием, не Новиков материально поддерживал семнадцатилетний труд Василия Петрова над переводом «Энеиды»… Скажем наконец грубо и прямо: царское правительство тратило огромные деньги на просвещение, на культурное строительство, и тратило безвозвратно – Новиков на просвещении зарабатывал. И заработал так много денег, так широко развернул с их помощью свое «дело», что мог уже формировать общественное мнение, направляя его на цели, весьма отличные от целей правительства. Впрочем, пострадал он не за это, а за свои связи с заграничными масонами.
Попробуем теперь воскресить метод сравнительных жизнеописаний, излюбленный Плутархом, и в параллель к судьбе Новикова рассмотрим другую писательскую судьбу.
Ермил Иванович Костров признается крупнейшим поэтом-переводчиком ХVIII столетия. Гнедич в свое время начал переводить «Илиаду» александрийским стихом с той песни, на которой остановился Костров, не рискуя (или просто не находя нужным) вступать с ним в состязание. Суворов во всех походах возил с собою костровский перевод песен Оссиана, называл Кострова любимым своим поэтом и неизменно ему покровительствовал.
А в покровительстве Ермил Иванович нуждался.
М. Дмитриев описывает его так: «Костров – кому это не известно! – был действительно человек пьяный. Вот портрет его: небольшого роста, головка маленькая, несколько курнос, волосы приглажены, тогда как все носили букли и пудрились; коленки согнуты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называется, рохля. Добродушен и прост чрезвычайно».
Дальше М. Дмитриев рассказывает о том, как Потемкин однажды заинтересовался Костровым и пожелал его видеть. И как Дмитриев, Александр Карамзин (брат Николая Михайловича) и другие собирали Кострова в дорогу. Каждый что-то уделил ему из своего платья. Поэта «причесали, обули, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был не тверд на ногах и шатался». Довели его до дверей Потемкина, втолкнули – и тогда уже разошлись по своим делам.
О чем говорит это описание характера и житейских привычек Ермила Ивановича? Ведь если такой человек, мягко говоря незнатный, абсолютно незащищенный, неприспособленный, притом хронический алкоголик, мог все-таки прожить жизнь, писать и переводить, иметь при университете синекуру (1500 рублей в год), пользоваться вниманием таких людей, как Потемкин, Суворов, Шувалов, Дмитриев, – ну, это говорит о том, на мой взгляд, что горькая участь Новикова не была обязательной для человека, решившегося в царствование Екатерины посвятить жизнь литературе.
Говоря о кружке Львова, я упомянул первый раз имя, которое стоит чрезвычайно высоко в индексе русских поэтов.
На двух чтениях мы с вами перебрали немало славных поэтических имен, относящихся к ХVIII столетию; среди них было до сих пор только два имени обязательных: Ломоносов и Кантемир. Простительно не знать Хераскова или Богдановича, могут не дойти руки до Петрова, до Николая Львова – но человек, мнящий себя образованным, обязан хотя бы раз в жизни внимательно прочесть Кантемира и Ломоносова. Это классические наши писатели. Можно учиться правильно говорить по-русски, правильно мыслить на русском языке, не интересуясь тем, как это делали образцовые авторы в XVIII столетии, можно и дом на песке строить без достаточно глубокого фундамента. Не будем обольщаться: Кантемир, Ломоносов устареть не могут. Если русская классика ничего не говорит уму и сердцу нашему, то виноваты в этом как раз ум и сердце, а не классика.
Так вот, третий такой автор на нашем пути, автор классический, это Иван Иванович Хемницер. Когда-то его басни входили в обязательную программу начальной русской школы, теперь самое имя его забывается понемногу.
Отец Хемницера, честный немец, перебрался из Саксонии в Россию, прослужил здесь пятьдесят лет по госпитальной части и умер в бедности. Сын своего отца, Хемницер двадцать четыре года провел на государственной службе и тоже ничего для себя не выслужил. Едва-едва мог он пропитать на свои средства старушку-мать, а уж про женитьбу нечего было и думать.
Как поэт Хемницер пользовался известным признанием. Незадолго до смерти был даже избран в члены Российской академии. Имел прекрасных друзей. Его трудно было не любить – тонкого, застенчивого, отлично образованного, простодушного Хемницера. Имелись среди его друзей и люди влиятельные, состоятельные.
Но ведь это Кострову легко было помочь – накормить, обуть, причесать… Благовоспитанному, безукоризненному в житейских отношениях Хемницеру помочь было не в пример труднее. (И это при том, что Костров, вообще говоря, в год пропивал больше, чем Хемницер проживал.)
Друзья думали о нем, хлопотали, искали для него местечко и наконец нашли. Тридцатисемилетний Хемницер назначен был консулом в Смирну. Туда он и отправился скрепя сердце, год промучился в этой гибельной малоазийской Смирне и умер. Кажется, от холеры.
Сочинения Хемницера отличает чистота слога, точность выражений, безыскусность. Что может быть проще такого, например, зачина:
Какой-то в Лондоне хитрец один сыскался,
Который публике в листочках обещался,
Что в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




