Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология Страница 17
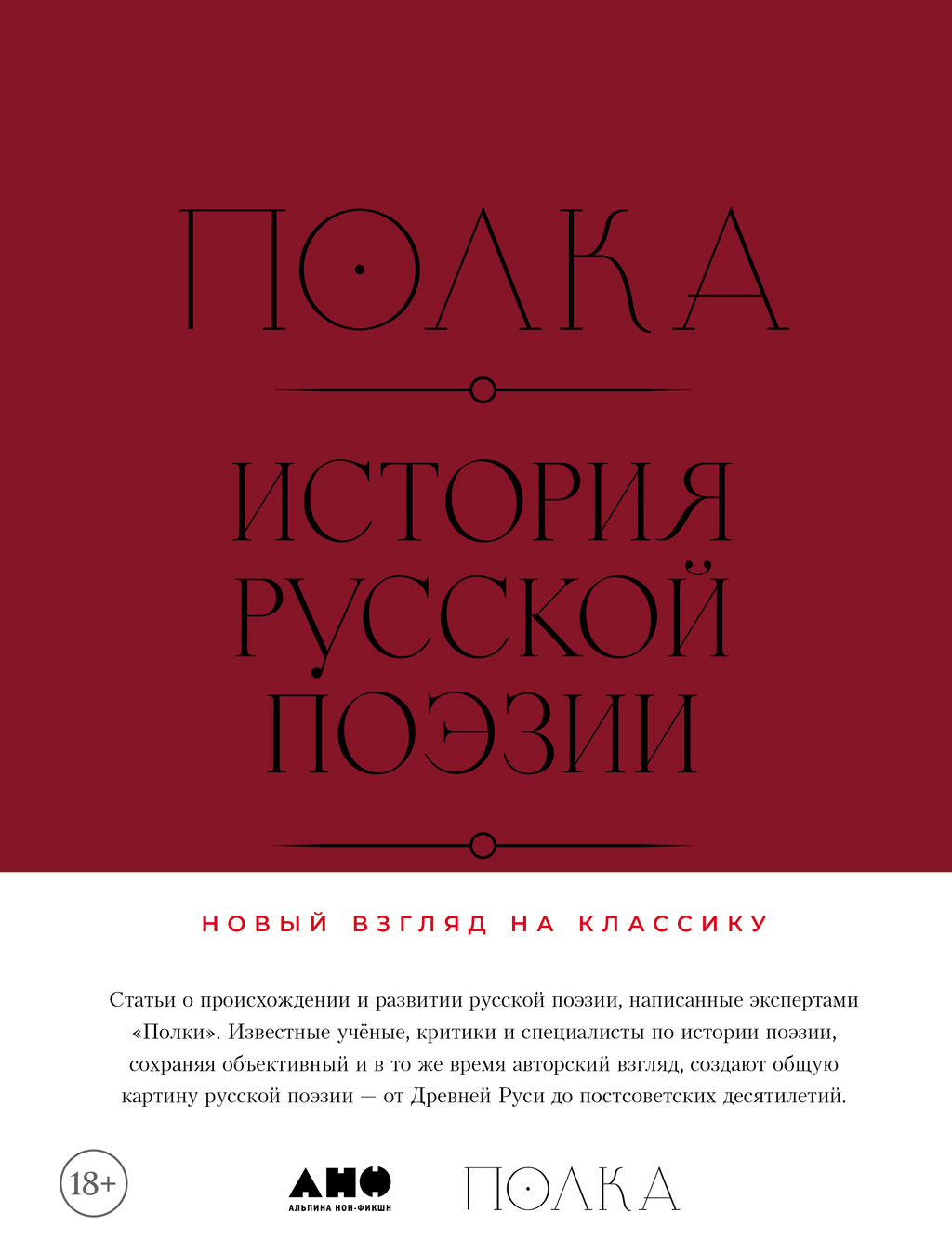
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Коллектив авторов -- Филология
- Страниц: 218
- Добавлено: 2025-09-02 00:05:21
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология» бесплатно полную версию:В это издание вошли статьи, написанные авторами проекта «Полка» для большого курса «История русской поэзии», который охватывает период от Древней Руси до современности.
Александр Архангельский, Алина Бодрова, Александр Долинин, Дина Магомедова, Лев Оборин, Валерий Шубинский рассказывают о происхождении и развитии русской поэзии: как древнерусская поэзия стала русской? Откуда появился романтизм? Что сделали Ломоносов, Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский, Ахматова, Бродский и Пригов? Чем объясняется поэтический взрыв Серебряного века? Как в советское время сосуществовали официальная и неофициальная поэзия? Что происходило в русской поэзии постсоветских десятилетий?
Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология читать онлайн бесплатно
Обманчивы мечты и между резвых снов
Надежды и любви, невинности подруги?
Уже смыкаются зениц усталых круги.
Носися с плавностью, стыдливая луна:
Я преселяюся во темну область сна.
Уже язык тяжел и косен становится.
Еще кидаю взор — и все бежит и тьмится.
Так же необычны для эпохи и по-новому выразительны «Желание зимы» (1776) и «Утро» (1780). В «Роще» (1777) Муравьёв чуть ли не единственным в промежутке между Тредиаковским и Радищевым прибегает к имитации гекзаметра — и показывает, что этот стих может быть по-настоящему благозвучен и гибок. Образы же прямо открывают двери в новую поэтическую эпоху:
Кажется, ветви беседуют; кажется, некая влага
Воздух собой проникает и землю покоящусь будит,
Землю, котора дремала, тенью своей покровенна.
Самое знаменитое стихотворение Муравьёва — «Богине Невы» (1794); Петербург в нём впервые воспевается не как имперская столица, а как таинственный, романтический, «заколдованный» город:
В час, как смертных препроводишь,
Утомленных счастьем их,
Тонким паром ты восходишь
На поверхность вод своих.
<…>
Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.
Именно такие поэты, как Муравьёв, Нелединский-Мелецкий, Капнист, ближе всего стоят к Карамзину и Дмитриеву, чья языковая революция (и оппозиция ей со стороны других писателей) предопределила дальнейшие пути развития русской литературы в 1790–1810-е годы. Один из крупнейших поэтов этой новой эпохи, Константин Батюшков, был непосредственным учеником Муравьёва. Но её дискуссии и проблематика — отдельная и большая тема.
Корни романтизма
Конец XVIII и начало XIX века называют золотым веком русской поэзии. Среди важнейших авторов эпохи — Карамзин, Батюшков, Крылов, Жуковский. Как развивались романтическая мысль и романтический стиль, которые найдут завершение в поэзии Пушкина, Лермонтова и Баратынского?
Текст: АЛИНА БОДРОВА
Первую треть XIX века, время Жуковского и Пушкина, часто называют золотым веком русской поэзии. Именно в это время складывается привычная нам поэтическая речь, формируется знакомый нам образ поэта-автора. Чаще всего эта эпоха ассоциируется с романтизмом. В центре романтической эстетики — культ самобытности и уникальности, как на уровне личности, так и на уровне целых наций. В этот период возникает убеждение, что поэтическое творчество выражает душу автора или даже душу народа. Конечно, это не значит, что стихи поэтов предыдущих поколений лишены индивидуальности, но в эпоху романтизма индивидуальность становится художественной задачей.
О главных героях этой литературной эпохи, до сих пор входящих в национальный канон — Жуковском, Пушкине, Лермонтове, — мы по-прежнему привыкли думать в рамках романтической модели. Читатели подробно изучают их биографии, ищут источники их текстов в фактах бытовой жизни, вписывают их в исторический и идеологический контекст. Не так много внимания уделяется контексту литературному, тем традициям, которые соединяют этих авторов с предшественниками и современниками.
Пётр Соколов. Портрет Василия Жуковского. 1820-е годы{39}
Между тем сводить этот период к победе романтизма — явное упрощение. Значение предшествующей традиции, как европейской, так и русской, для этой эпохи огромно. В достижениях поэзии и прозы XVIII века — истоки как образной системы, так и языка новой поэзии. Кроме того, романтический культ оригинальности и национального своеобразия не отменял многих важных черт классицизма — например, поэтической соревновательности или работы с античным наследием. Напомним популярное высказывание Жуковского, одного из главных практиков романтического перевода: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник». Речь здесь идёт о соревновании с исходным текстом, текстом-образцом, как это было и в классицизме. Но показательно, что именно в этом Жуковский видит оригинальность поэта-переводчика, который «может иметь право на имя автора оригинального по одному только искусству присваивать себе чужие мысли, чужие чувства и чужой гений».
Григорий Чернецов. Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич в Летнем саду. 1832 год{40}
Умение воспроизвести «чужое слово»[46] стало восприниматься в том числе как умение понять и воплотить Другого, чужую душу — личную или народную. Отсюда, как кажется, проистекает ещё одна особенность романтической эпохи в России — постоянная и интенсивная работа с европейским материалом. Русские поэты активно переводят французских, немецких, английских авторов: именно в этот период частью отечественного литературного пантеона становятся Шиллер и Гёте, Байрон и Шекспир. Было ясно, что новый поэтический язык нужен для передачи лучших достижений европейской словесности, а авторы мыслили себя в одном ряду с главными авторами европейских литератур.
Французская поэзия XVII–XVIII веков оставалась фундаментом литературной системы для предпушкинского и пушкинского поколений, несмотря на то что романтическая культура во многом противопоставляла себя античным образцам и воспроизводившему их французскому классицизму. В 1824 году лицейский приятель Пушкина поэт и издатель Антон Дельвиг (1798–1831) говорил о Евгении Баратынском, что тот «недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком». Эта формула справедлива и для большинства их современников. Среди актуальных образцов — драматурги-классики Жан Расин, Пьер Корнель и Мольер, автор «Поэтического искусства» Никола Буало, баснописец и сочинитель галантной сказки «Любовь Психеи и Купидона» Жан де Лафонтен, многогранный Вольтер — автор бурлескной поэмы «Орлеанская девственница», остроумных сатир (прежде всего «Светского человека») и полуприличных стихотворных сказок («Что нравится дамам»), признанный автор «лёгкой поэзии» и пересоздатель жанра эротической элегии Эварист Парни. Об их востребованности ещё на рубеже 1810–20-х годов выразительно говорит первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила» (1818–1820). Она полна сюжетных и риторических ходов, живо напоминающих французскую поэзию «хвалёных дедовских времян». Например, сюжетной линии Людмилы в замке Черномора соответствуют эпизоды сказки Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (современный читатель этот сюжет лучше знает по «Красавице и чудовищу» и «Аленькому цветочку»). В трагикомической истории Финна и постаревшей колдуньи Наины есть элементы, прямо восходящие к сказке Вольтера «Что нравится дамам» и его же «Кандиду». В некоторых фривольных описаниях и эпитетах (типа «ревнивые одежды») исследователи отмечали отголоски формульного языка элегий и поэм Парни. Сам Пушкин открыто признавался в том, что обязан французскому лирику:
Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин,
И звон, и пену чаш глубоких,
Милее, по
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




