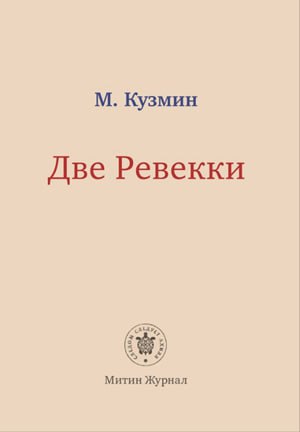Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова Страница 29
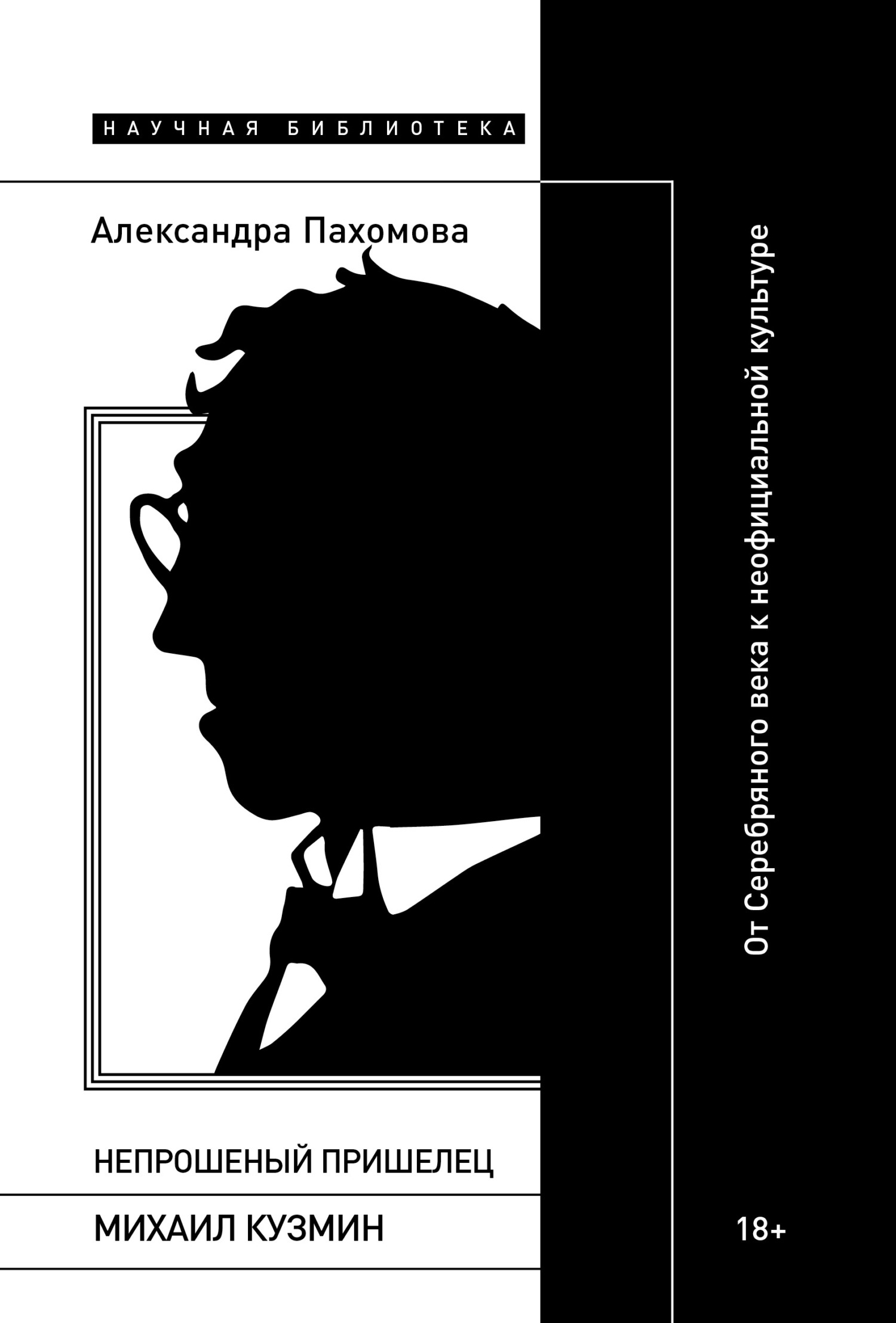
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Александра Сергеевна Пахомова
- Страниц: 33
- Добавлено: 2025-09-04 23:04:33
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова» бесплатно полную версию:Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).
Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова читать онлайн бесплатно
Оттуда несется глухо,
ветра глуше:
– Корабельщики-братья, взроем
хмурое брюхо,
где урчит прибой и отбой!
Кружок «марсельских матросов» выступил жизненной проекцией «братства» – тесно связанных друг с другом мужчин, своими узами и своим творчеством противостоящих бурному времени. Актуализируя эти смыслы, Кузмин планировал выпустить оду в издательстве «Марсельских матросов» отдельной книгой[261].
Однако влияние Кузмина на литературную молодежь было велико и до начала 1917 года (достаточно вспомнить племянника поэта С. А. Ауслендера, а также Г. В. Иванова, А. Э. Беленсона и др.). Даже с некоторыми «матросами» Кузмин был знаком и ранее – например, с Бамдасом и Курдюмовым. Тем не менее попыток создать собственную группу в период расцвета своей славы – на рубеже 1900–1910-х годов – Кузмин не предпринимал. Представляется, что его влияние до середины 1910-х было пассивным: принимая свой статус авторитета и очевидно тяготея к нему, Кузмин не стремился распространить его на целую группу. В 1917 году появились причины, заставившие его пересмотреть такое отношение.
Как мы отметили выше, «матросы» ориентировались на определенный период творчества своего «капитана», 1900-е – начало 1910-х годов. Лирику этого времени Деген назвал в своей обзорной статье-мемуаре самым значительным из достижений поэта:
Кузмин заговорил на таком простом языке, о таких интимных, милых и близких сердцу всякого предметах и так скромно, что слова его были приняты сразу и бесповоротно, не вызвав протестов и негодований. Манера же, с какой он произносил эти слова, манера его письма была настолько проста и сдержанна, что могла показаться, после прежних фокусов над словом и формой, самой безобидной[262].
Такая оценка, прозвучавшая в 1918 году, примечательна. Она возвращает нас к ранней репутации поэта как певца «мелочей прелестных и воздушных». Как мы писали выше, этот образ лег в основу ядра репутации Кузмина, и в самом факте его воспроизведения нет ничего удивительного. Однако выше мы упоминали, что в 1917–1918 годах прежняя репутация Кузмина вновь стала актуальна, но уже как инструмент критики: его стихотворные посвящения революции, вступающие в противоречие со сформированным десятилетием ранее образом, были встречены ехидными рецензиями. В апреле 1917 года – в месяц, когда начались собрания «матросов», – в «Журнале журналов» вышла первая прицельная критика – фельетон, в котором Кузмин осуждался за то, что «пачкает… нечистыми прикосновениями» слово «революция»[263]. Обидный для самолюбия Кузмина фельетон появился в следующем номере этого же издания[264], и еще один – в начале лета[265]. Подчеркивая положительные стороны кузминской репутации, продуцируя узнаваемые темы и поэтику, «марсельские матросы» (при прямом посредничестве Кузмина) совершали своего рода противодействие участившейся критике, объявляя литературному миру о том, что порицаемая поэтика и осмеиваемый образ их «капитана» все еще имеют консолидирующий потенциал и привлекательны для молодых поэтов.
Осенью 1907 года в жизни Кузмина сложилась похожая ситуация: летом того года на страницах периодики развернулась массированная кампания против выхода «Крыльев». Критики порицали Кузмина за безнравственность, разврат и негативное влияние на молодежь. В октябре Кузмин, уже пестующий мысль об организации общества, собирает «кружок гимназистов»[266]. Двукратное повторение ситуации – в 1907 и 1917 годах – показывает, что Кузмин понимал репутационный вес, придаваемый наличием круга молодых последователей и почитателей. Кружок подражателей также закреплял творческие достижения Кузмина предшествующего периода: обозначив свое положение в литературе, писатель мог двигаться дальше, развивая иную творческую манеру, – что он и делает в 1917 году, осваивая авангардную поэтику. Все это позволяет нам сделать еще одно наблюдение над функционированием ядра репутации Кузмина: закрепленная в культуре модель восприятия способна активизироваться в кризисные периоды, «подновляя» репутацию автора.
Наконец, участие Кузмина в группе «матросов» могло быть стимулировано пореволюционной работой различных организаций, в которой писатель принял деятельное участие (см. его участие в Союзе деятелей искусств, группе «Искусство. Революция» и др.). Возможно, в пику союзам и куриям с их официальной, иерархичной структурой Кузмин хотел показать, что жизнеспособной может быть и другая модель писательской кооперации: кружок «любящих и ценящих друг друга людей».
Итак, в кризисный момент для своей репутации Кузмин решил использовать уже однажды опробованные и понятные для него ходы (образование кружка, выход альманаха). Однако неудивительно, что в пореволюционной атмосфере эти стратегии не сработали: эпоха не располагала к долгоиграющим проектам, репутация Кузмина была скомпрометирована его гомоэротическими пристрастиями, а выбранный круг «матросов» оказался слишком вторичен и был не способен создать полноценное литературное движение, просуществовав всего несколько месяцев. Вместе с тем именно весной 1917 года происходит зарождение той модели литературного сообщества, которой Кузмин будет следовать до конца своих дней и которая сыграет большую роль в становлении его репутации и славы[267]. Кузмин действительно «поматросил и бросил» – однако сделал это не зря.
* * *
К осени 1917 года Кузмин подошел с не слишком радостными итогами: ни один из его больших проектов не удался. Вышедшие до революции книги рассказов и сборник стихов «Глиняные голубки» не собрали сколько-нибудь значимой прессы; попытки обновить репутацию и вернуться к образу мэтра закончились крахом. Сама по себе нелегкая задача, стоявшая перед Кузминым как перед писателем и публичным деятелем искусства, осложнялась тем, что ему нужно было определиться и с отношением к происходящему в стране – понять, как существовать в новом мире. Ему было всего 45 лет, и у него были все шансы занять заметное место в пореволюционной действительности.
Глава 2. Пространство выбора (1917–1921)
В отсутствие документальных свидетельств, относящихся к жизни Кузмина большей части 1917 года, для реконструкции общественной и эстетической позиции писателя остается одно – обращаться к его художественным текстам тех лет. Революционный год был отмечен для писателя творческим подъемом: было написано более тридцати стихотворений, пять рассказов, семь пьес и несколько музыкальных произведений. Об энтузиазме Кузмина в дни февральских событий свидетельствуют рассмотренные выше «революционные» стихи, вхождение в пореволюционные организации интеллигенции и создание группы «Марсельские матросы». Гораздо сложнее выделить тот момент, когда энтузиазм Кузмина сменился на противоположные чувства – страх, усталость от войны, напряженное ожидание перемен. О том, что отношение Кузмина к революции поменялось, свидетельствует целый ряд фактов. Дневниковые записи конца 1917 года проникнуты надеждой на большевиков и их преобразования – причем не только в политической, но и в духовной сфере:
Чудеса свершаются. Все занято большевиками. Едва ли они удержатся, но благословенны. Конечно, большинство людей – проклятые паники, звери и сволочи. Боятся мира, трепещут за кошельк<и> и готовы их защищать до последней капли чужой крови (26 октября 1917 г.);
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.