Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин Страница 46
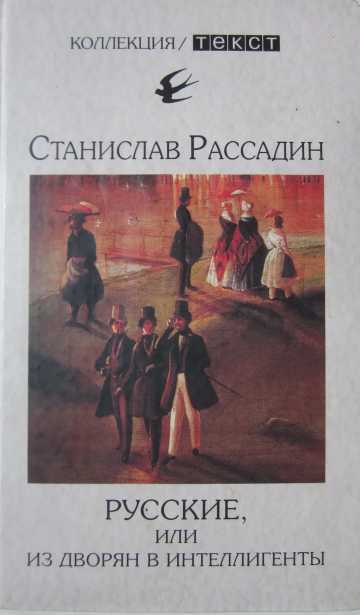
- Категория: Проза / Русская классическая проза
- Автор: Станислав Борисович Рассадин
- Страниц: 137
- Добавлено: 2025-08-24 12:01:15
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин» бесплатно полную версию:Девятнадцатый век не зря называют «золотым» веком русской литературы. Всего через два года после смерти Д. И. Фонвизина родился А. С. Грибоедов, еще через четыре года на свет появился А. С. Пушкин, еще год — Баратынский, и пошло: Тютчев, Гоголь, Герцен, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Островский, Щедрин, Лев Толстой… Завязалась непрерывная цепь российской словесности, у истоков которой стояли Державин и Фонвизин. Каждое звено этой цепи — самобытная драгоценность, вклад в сокровищницу мировой литературы. О жизни и творчестве тех, кто составил гордость нашей культуры, о становлении русской интеллигенции рассказывает известный писатель С. Б. Рассадин.
Русские, или Из дворян в интеллигенты - Станислав Борисович Рассадин читать онлайн бесплатно
Пестель! Чаадаев! Герцен! Передавая эту записку наверх, управляющий III отделением фон Фок даже из осторожности кое-какие резкости вычеркнул.
Секрет этой отваги прост — да и нету его, секрета. Как лишь на первый, наивный взгляд покажется странным яростный пафос борьбы со всеобщей бедой, цензурой; Фаддей Венедиктович будет, к примеру, срамить цензора Фрейганга, который вымарал выражение «исполать вам», решивши, что «исполать» — слово матерное. Даже дойдет до обобщений: «…Взгляните на нынешних цензоров! Кто с борка, кто с сосенки!.. Цензор Крылов признан негодным занимать место адъюнкта статистики в университете, куда девать его? В цензоры! Этот человек почти идиот, туп, как бревно!» Но взывать он станет — к кому, куда? В III же отделение. И — вот ради чего: «Вместо того, чтобы запрещать писать проти-ву правительства, цензура запрещает писать о правительстве и в пользу оного».
Много позже адвокат Федор Плевако найдет формулу поуклончивее: цензура — вроде свечных щипцов, которые снимают нагар и помогают свече светить ровно. Но и обращаться он будет не к тем, кому внятен язык докладной записки или доноса.
За свободу монопольного права возносить власть, а, при случае и в умеренных дозах, позволять себе упрек в ее адрес — за свободу, дающую власть над публикой, прежде всего, конечно, коммерческую, Булгарин готов был платить чем угодно.
Стукач, доносчик, агент, Видок — точно так. Но причиной тому была не патологическая страсть к доносительству, смолоду вовсе не наблюдавшаяся, даже не одна лишь потребность искупить былые грехи, тем паче — не страх, ибо, случалось, Булгарин и зарывался, напарывался на начальственный гнев. Совсем другие страсти владели им — а по сути, одна-единственная, необоримая, всепоглощающая. «…Булгарин не был прямым политическим осведомителем, и все дело было сложнее», — утверждает Вадим Вацуро, и если «не был» можно оспорить, так как сам Бенкендорф, раскричавшись на Дельвига, в горячке не скрыл, что о его противоправительственных разговорах «доносит Булгарин», то с тем, что «сложнее», надобно согласиться. Да: «Он был политическим конформистом, но прежде всего был литературным буржуа в феодальной России. Он не нападал, а защищался, сохраняя свою собственность — газету, подписчиков, покупателей.
И здесь он не разбирал средств…»
Средства, как водится, оправдывались целью — победно достигнутой. В начале тридцатых годов тираж «Северной пчелы» был 4000: по тем временам цифра ошеломляющая (для сравнения — всего сто подписчиков в эту же пору на «Литературную газету», правда уже перешедшую от Дельвига к Оресту Сомову и увядающую). Презираемый Пушкиным роман «Иван Выжиги н» за пять дней 1829 года расходится в 2000 экземпляров, за два года — в 7000, а тиражи самого Пушкина — 1200, много, если 2400, для него это уже желанный успех.
Не перевести ли голые цифры на хруст ассигнаций и звон серебра? Разница выйдет еще эффектней: «…Булгарин и Греч, продолжая издавать «Северную пчелу» и «Сын Отечества», получали в год чистого дохода около 20 тысяч серебром (около восьмидесяти тысяч ассигнациями)… — Подсчитав это, Натан Эйдельман не удержится от нашего общего, ревниво-болезненного сравнения: —…Между прочим — вдвое больше, чем весь капитал, поставленный несчастным Германном на первую карту, и не намного меньше пушкинских посмертных долгов».
Словом, феномен фигуры Булгарина (да, в те годы еще феномен, еще не началось производство и перепроизводство булгариных, чего русской словесности было не избежать) — в том, что, и глубоко презирая его, с ним как с властителем душ приходилось считаться. И когда граф Соллогуб в книготорговой смирдинской лавке и в обществе Пушкина импровизировал эпиграмму: «Коль ты к Смирдину войдешь, ничего там не найдешь, ничего ты там не купишь, лишь Сенковского толкнешь…», — а Пушкин блестяще ее завершил: «…Иль в Булгарина наступишь», тут нечаянно сразу сказалось все: и презрение, и неминучесть… Боже! Не зависть ли?
Булгарин — был. И пусть тот же Пушкин расценивал как пощечину фразу «Московских ведомостей», поместивших их в оскорбительном для него соседстве: «Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности…» (переводя оскорбленность на наш нецеремонный язык, дескать, на одном поле не сяду), И» куда было деться? Да еще на общем поле, в сословной среде, где все повязаны общностью, даже и нежелательной: или хлясть по щеке перчаткой и на дуэль, или уж — водись! И вот в феврале 1824 года Пушкин, сидя в Одессе, вымучивает эпистолярную благодарность за булгаринскую благосклонность к «Бахчисарайскому фонтану»: «Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания и похвалы могут быть и должны быть уважаемы». А позже, когда полутайное стало до омерзения явным, все еще происходит внутренняя борьба, в которой и признается Александр Сергеевич: «Если встречу Булгарина где-нибудь в переулке — раскланяюсь и даже иной раз поговорю с ним; на большой улице — у меня не хватает храбрости».
(А тот таким манером простится с Пушкиным в час его смерти; «Жаль поэта и великого — а человек был дрянной». Что ж, это своего рода даже некая объективность в размере, доступном Булгарину; мог ведь сказать, что и поэт-то — дрянцо.)
Да, Вацуро выразился точно: Булгарин защищался и защищал, не лезя на приступ из кожи вон, дабы доказать свою силу и правоту. Сила и так была на его стороне, исчисляясь даже не знаками начальственных милостей, а тем, что куда весомей и убедительней, так что — гневайтесь, сударь Александр Сергеевич, исходите бессильною завистью, а читают и покупают-то нас! Не вас!..
Пушкин — тот действительно нападал, и, хотя при его авторитете, при его острословии уколы бывали болезненны для булгаринского самолюбия, дела поправить они не могли. Дело было проиграно Пушкиным — именно дело, в торговом, коммерческом смысле, на том пространстве, куда переселял русскую публику автор «Ивана Выжигина» и издатель «Северной пчелы». Он знал, что делал; знал, как делать. И если уж Осип Сенковский, барон Брамбеус, в битве за тиражи был затоптан стадным союзом Булгарина, Греча и Полевого, если была оттеснена его «Библиотека для чтения», первый в России толстый журнал, рассчитанный на
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


