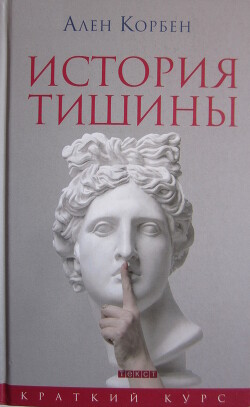История тишины от эпохи Возрождения до наших дней - Ален Корбен Страница 18
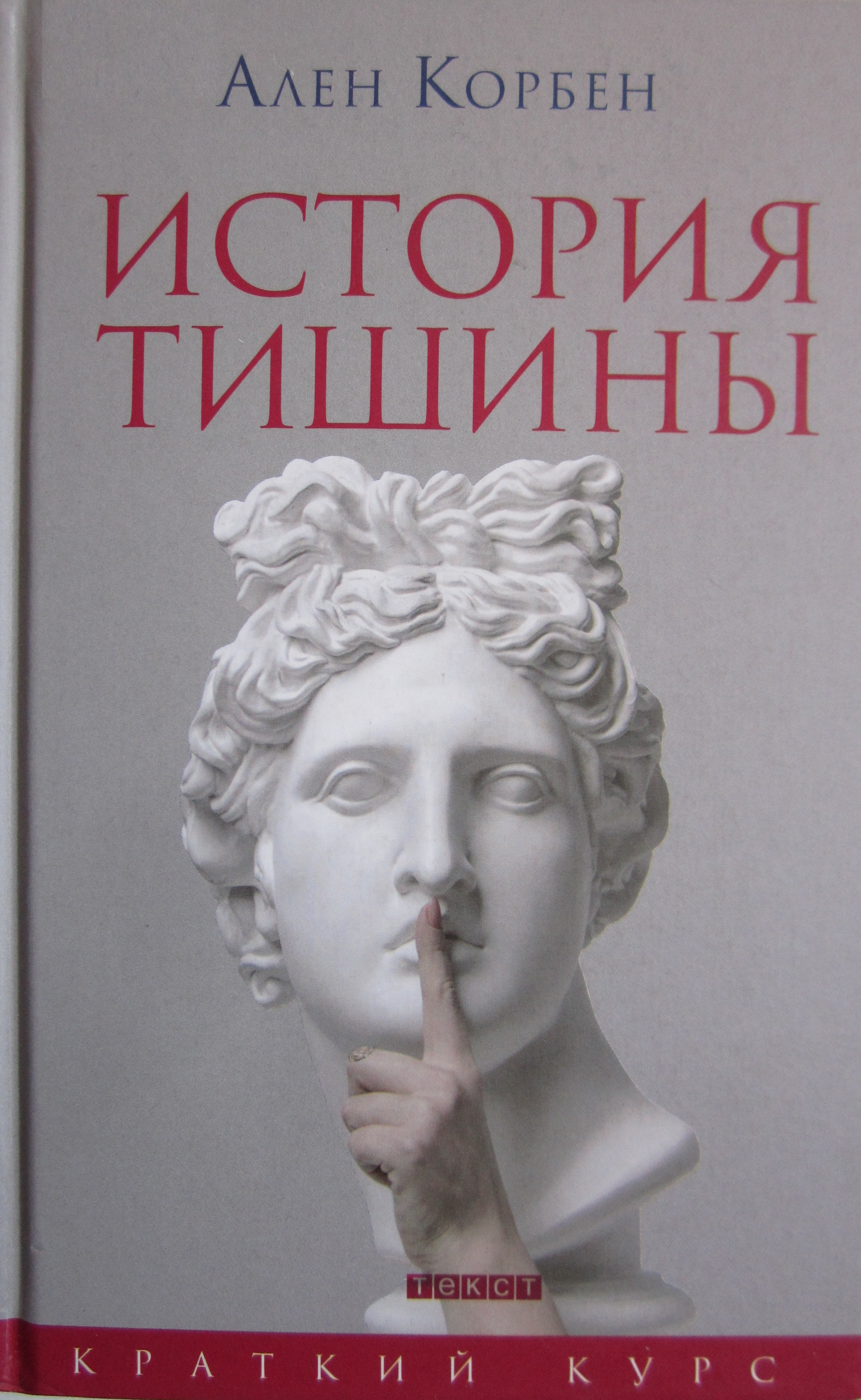
- Категория: Проза / Русская классическая проза
- Автор: Ален Корбен
- Страниц: 33
- Добавлено: 2025-09-01 09:02:38
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
История тишины от эпохи Возрождения до наших дней - Ален Корбен краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История тишины от эпохи Возрождения до наших дней - Ален Корбен» бесплатно полную версию:Тишина — это не просто отсутствие звуков. Она живет внутри нас, составляя неотъемлемую часть нашего внутреннего пространства. Не случайно тишину с давних времен оберегали философы, писатели, художники, великие мыслители и святые — а также мечтатели и любители одиноких прогулок. Сегодня многие боятся тишины, бегут от нее, и это привело к глубоким изменениям человеческой психики. Однако, как показывает французский историк и этнограф Ален Корбен, ценность тишины в наш век особенно велика. Она есть не что иное, как разновидность слова, которое мир обращает к нам с начала времен.
История тишины от эпохи Возрождения до наших дней - Ален Корбен читать онлайн бесплатно
На протяжении столетий, в особенности это касается XIX века, сакральные образы и сюжеты, вызывавшие в душе радость, боль, ликование, образы, на которых верующий сосредотачивался во время молитвы на четках, также связаны с пониманием безмолвия как необходимого условия жизни духа и погруженности внимания вовнутрь. В XVIII веке концепции безмолвной поэзии образов и живописи, наделенной даром речи, шли рука об руку и воспринимались в неразрывном единстве друг с другом[194]. Необходимо понять, что в ту эпоху зрители смотрели на картину иначе, чем мы делаем это сейчас. Их взгляд был испытующим, в нем присутствовало вопрошание. Они обращались к полотну в надежде воспринять нечто такое, что дало бы новый импульс их духовному поиску и натолкнуло бы на важные размышления. Сегодня мы смотрим на картину под эстетическим углом, как на объект искусства. Поэтому одна из ключевых задач историка состоит в том, чтобы взглянуть на произведение живописи так, как смотрели на него в прежние эпохи, и объяснить современному зрителю точку зрения людей прошлого. Изображение одиноких человеческих фигур явно усиливает «эффект безмолвия», который не мог не наводить на размышления, способствуя обращению взгляда вовнутрь. Марк Фумароли приводит примеры и анализирует ряд картин, где сила тишина раскрывается особенно полно.
Дюрталь, уже упомянутый нами выше персонаж книг Гюисманса и во многих отношениях двойник автора, полагает, что фламандских живописцев, погруженных в работу над своими полотнами, «преследовали мысли о мирской жизни, [...] и эти мастера живописи [...] оставались, прежде всего, людьми». Условия, в каких они писали, совсем не походили на тишину, покой и умиротворенность монастыря. Фра Анджелико, однако, как отмечает Дюрталь, удалось подняться «в высшие сферы», где он и пребывал, создавая свои произведения «полностью погруженным в молитву о творчестве, не видя ничего вокруг». Фра Анджелико «никогда не обращал взгляд во внешний мир [...] и смотрел лишь внутрь себя»[195]. Вот откуда проистекает тишина, какой пронизаны его работы.
Ив Бонфуа долго рассматривает «Воскресение Христа» Пьеро делла Франчески. По мнению исследователя, от этой фрески явно исходит тишина. Она призывает зрителя обратиться в слух и осознать, насколько долго и кропотливо живописец над ней трудился. По мнению Бонфуа, «Воскресение» делла Франчески отличается от других изображений XIV века, которые исполнены тишины, идущей от особенностей выстраивания в них перспективы, — ее характерная черта в «устанавливании четких и простых соотношений между пропорциями и формами». Но тишина фрески Пьеро делла Франчески, как подчеркивает Ив Бонфуа, заключается в ином, у нее другая природа: речь идет о безмолвии, возникающем, когда человек «внимает миру, прислушивается ко всем его звукам и вибрациям, к каждому шороху и вглядывается в отражение небесной синевы в воде»[196].
Сюжет Благовещения был в то время очень популярен, и, как правило — что вполне объяснимо, — удивительная, непередаваемая тишина всячески в нем подчеркивалась. Пусть даже архангел обратился к Пресвятой Деве со словами — но, в сущности, были ли они произнесены? — и та коротко ему ответила, душа Марии наполнена глубоким молчанием. Оно рассеется лишь тогда, когда раздастся славословие Марии «Магнификат» («Величит душа Моя Господа...»). В схожем ключе Марк Фумароли анализирует, причем блестяще, безмолвие картины «Мадонна в скалах» кисти Леонардо да Винчи, находя это произведение вершиной религиозной живописи в христианской традиции. От персонажей картины веет тишиной, и «они уже знают намеченный ход всех последующих событий, осознают их неминуемость и наблюдают со стороны»[197] — Благовещение, Рождество, Крещение и Крестный путь.
Небольшая картина Рафаэля, выставленная в Лувре, получила название «Молчание Мадонны». Эта работа заслуживает столь же тщательного анализа, какой провел Марк Фумароли в отношении «Мадонны в скалах». Теперь же обратимся к «Святому Иосифу» Жоржа де Ла Тура и к глубине смысла той безмолвной речи, с которой художник обращается к зрителю. Этот живописец, как отмечает Марк Фумароли, «придерживается традиционного французского принципа, состоящего в том, чтобы избежать крайностей — как чрезмерности, так и недостатка — и соблюсти во всем меру; благодаря этому картина обретает насыщенность и глубину», и такой подход служит отличительной чертой «галликанской духовности»[198].
Как мы видели, Поль Клодель считал живопись Рембрандта искусством тишины. В сущности, творчество многих художников, работавших после Рембрандта, можно было бы охарактеризовать так, и едва ли возможно составить исчерпывающий список этих художников. Однако же попробуем назвать некоторых из них. Картины жанра vanitas, подчеркнем снова, — это запечатленное на холсте безмолвие, причем здесь эффект еще более усилен благодаря изображенным предметам. Луи Марен называет vanitas «онтологией пустоты», подобные произведения заставляют нас прислушаться к тишине вещного мира. Они призывают просто смотреть, пребывая в молчании, требуют от зрителя отложить в сторону все повседневные дела, замереть в немом созерцании и оставаться вот так до конца дней, в ожидании момента смерти. Вместе с тем vanitas воскрешают в уме зрителя тени прожитых лет. В связи с этим отметим особую силу воздействия картины Филиппа де Шампаня «Memento топ», выставленной в музее города Ле-Ман. Мария Магдалина и святой Иероним были излюбленными персонажами картин, выполненных в жанре vanitas, для которых безмолвие было главным объектом изображения.
Многие художники первой половины XIX века стремились передать неизреченное слово тишины — прежде всего, речь идет о Каспаре
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.