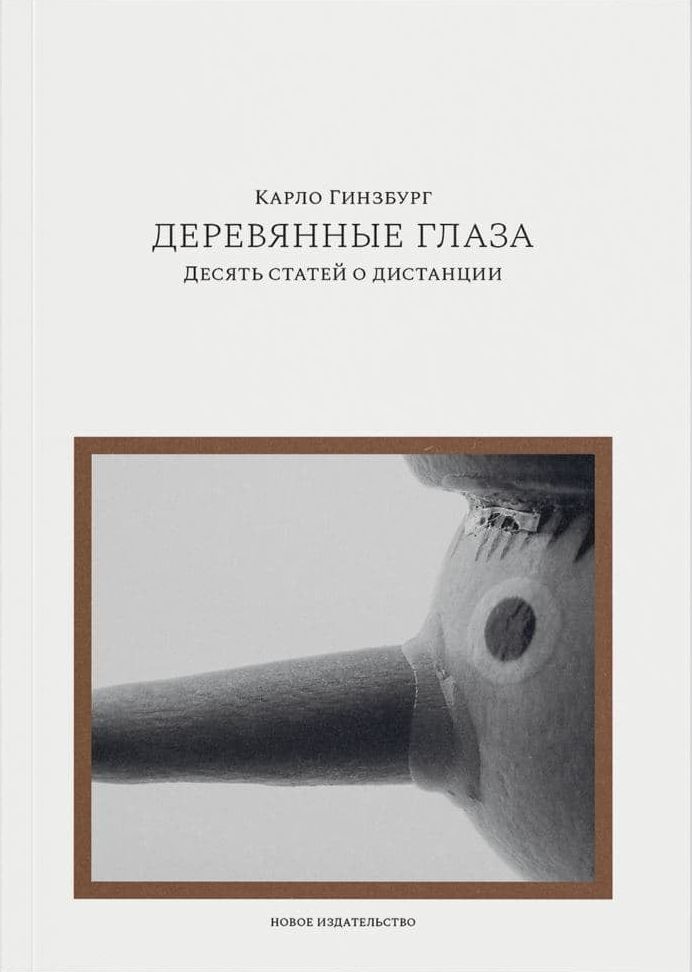Соотношения сил. История, риторика, доказательство - Карло Гинзбург Страница 10
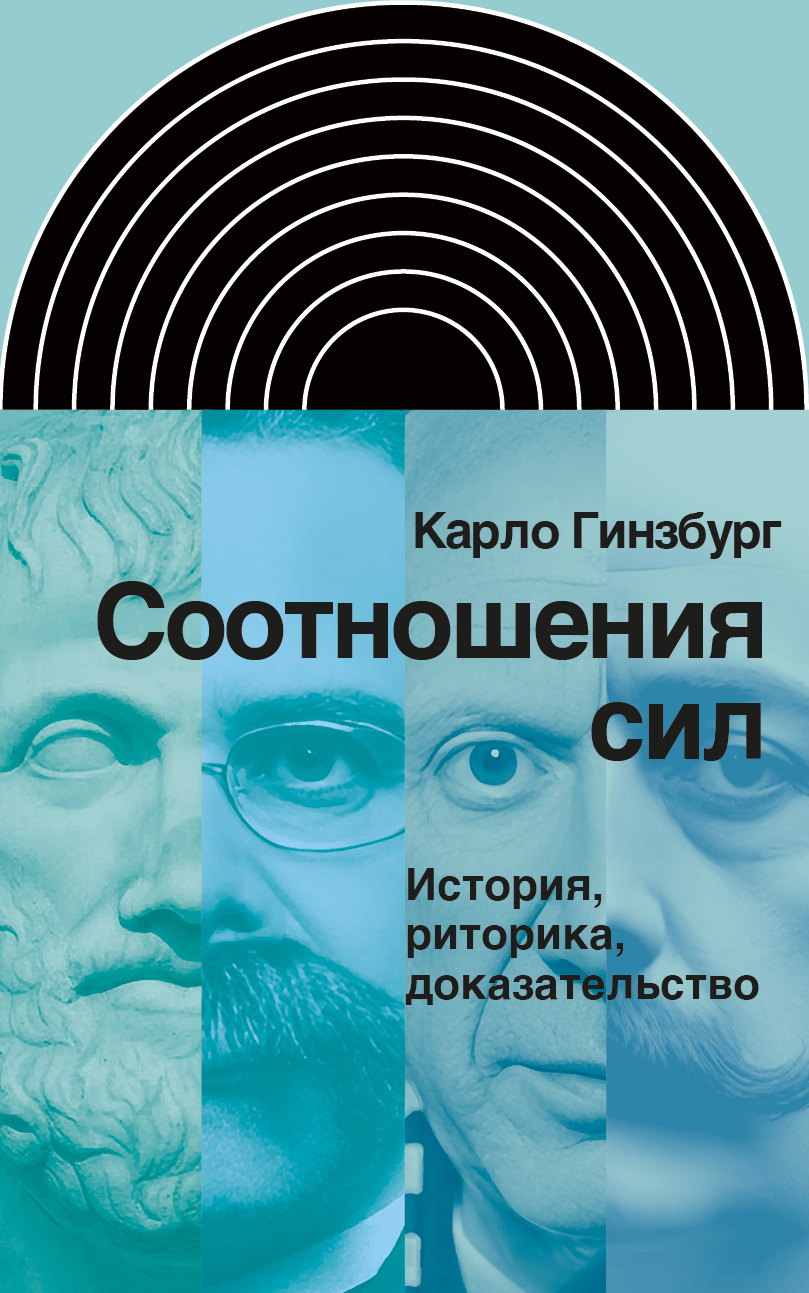
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Карло Гинзбург
- Страниц: 12
- Добавлено: 2025-08-25 09:02:39
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Соотношения сил. История, риторика, доказательство - Карло Гинзбург краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Соотношения сил. История, риторика, доказательство - Карло Гинзбург» бесплатно полную версию:На протяжении десятилетий постмодернистские скептики утверждали, что невозможно строго разграничить правду и вымысел, а историю следует отождествлять с риторикой. Но о какой риторике идет речь? Полемизируя с релятивистами, знаменитый историк Карло Гинзбург показывает, что постмодернистский скептицизм вдохновлялся ранним сочинением Ф. Ницше об истине и лжи, в котором риторика, вопреки Аристотелю, решительно противопоставлялась доказательству. Однако в традиции, основанной Аристотелем и идущей затем от Квинтилиана к Лоренцо Валле, связь между риторикой и доказательством является центральной. Выявляя различие между двумя версиями риторики, Гинзбург предлагает посмотреть под новым углом на самые разные сюжеты: речь против европейского колониализма, произнесенную повстанцем-туземцем и включенную в сочинение французского иезуита XVIII века; пустые строки в знаменитом романе «Воспитание чувств», который Пруст считал кульминацией всего творчества Флобера; извилистый путь, приведший Пикассо к «Авиньонским девицам». Задача автора – продемонстрировать, что внутри исторической науки необходимость в доказательствах по-прежнему не отпала, а историческое познание все еще возможно.
Соотношения сил. История, риторика, доказательство - Карло Гинзбург читать онлайн бесплатно
Включение романиста, тем более такого великого, как Флобер, в рассуждение об истории, риторике и доказательстве, кажется, внезапно подтверждает распространенное мнение скептиков, согласно которому вымышленные повествования возможно уподобить историческим. Моя цель прямо противоположна: разбить скептиков на их собственном поле, показав на радикальном примере когнитивные следствия самого выбора нарративной стратегии (в том числе в литературе). Возражая против рудиментарного тезиса о том, что нарративные модели становятся частью историографического труда лишь в самом конце, в процессе организации собранного материала, я стремлюсь продемонстрировать, что, напротив, они задают ограничения и открывают новые возможности на каждой стадии исследования[117].
В прошлом (XIX) веке энтузиазм, связанный с научным и техническим прогрессом, претворился в образе познания (это касается и историографии), основанного на идее пассивного отражения реальности. В XX столетии аналогичный восторг, наоборот, сопутствовал активным, конструктивным элементам познания. Одной из причин подобной трансформации также, а возможно и в особенности, является дарованная части человечества способность управлять реальностью с помощью простейшего жеста – включая и выключая телевизор. Несомненно, подобная ситуация способна привести к вытеснению. Впрочем, полемика со скептическим релятивизмом, которую я вел до сих пор, не должна вводить в заблуждение. Мысль о том, что достойные доверия источники дают непосредственный доступ к реальности, или по крайней мере к отдельной ее части, также представляется мне рудиментарной. Источники – это не распахнутые окна, как полагают позитивисты, и не стены, затрудняющие обзор, как думают скептики. Разве что мы можем сравнить их со стеклами, которые искажают реальность. Анализ искажений, специфических для того или иного источника, уже подразумевает конструктивный элемент. Однако конструктивизм, как я попытаюсь показать далее, не исключает доказательства, а проекция желания, побуждающего нас заниматься исследованиями, не исключает контраргументов, продиктованных принципом реальности. Познание (в том числе историческое познание) возможно.
Глава 1
Еще раз об Аристотеле и истории
1
Всякий человек, размышляющий о значении истории, будь то грек в древности или мы сегодня, должен соотносить свое мнение с суждением Аристотеля, высказанным в знаменитом отрывке его «Поэтики» (1451b). Аристотель писал, что «поэзия философичнее и серьезнее истории». Первая изображает общее и возможное «в силу вероятности или необходимости»; вторая – единичное и подлинное («что сделал или претерпел Алкивиад»)[118]. Мозес Финли комментировал: «Он [Аристотель] не ограничился осмеянием истории, он ее полностью отверг»[119]. Четкий вывод, какого и можно было ожидать от Финли. Однако его уместно переформулировать, по крайней мере частично. Я постараюсь показать, воспользовавшись еще одним наблюдением Финли, сделанным по другому поводу, что текст, в котором Аристотель наиболее подробно говорит об историографии (или, во всяком случае, о ее фундаментальной сути) в близком нам всем смысле, – это не «Поэтика», а «Риторика».
Существует большой риск, что мое утверждение будет истолковано превратно. Сведение историографии к риторике вот уже тридцать лет как служит излюбленной темой полемики с позитивизмом, которая быстро набирает обороты и в той или иной степени обнаруживает свой скептический характер. Хотя этот тезис, в сущности, восходит к Ницше, сегодня он по большей части связывается с именами Ролана Барта и Хейдена Уайта[120]. Их точки зрения совпадают не полностью, но при этом покоятся на общих основаниях, так или иначе сформулированных в эксплицитном виде: как и риторика, историография занимается исключительно убеждением; ее цель – воздействие, а не поиск истины; подобно роману, сочинение по историографии творит автономный мир текста, не имеющий никакой верифицируемой связи с внетекстовой реальностью, к которой отсылает; историографические и художественные тексты автореференциальны, поскольку им обоим присуще риторическое измерение.
Упомянутые утверждения строятся вокруг риторики, ее целей и границ. Однако какая риторика имеется в виду? Разумеется, не та, что стала предметом анализа в самом древнем дошедшем до нас трактате о риторике, в «Риторике» Аристотеля. Достаточно прочитать ее начало, чтобы убедиться в этом. Сказав, что «риторика – искусство, соответствующее диалектике» и что все пользуются ею либо случайно, либо с непринужденностью, происходящей от привычки, Аристотель объявляет, что ставит себе совершенно иную цель, нежели его предшественники, которые в ныне утраченных трактатах изучили лишь незначительную часть «словесного искусства»:
…в этой области только доказательства обладают признаками ораторского искусства, а все остальное не что иное, как аксессуары. Между тем авторы систем не говорят ни слова по поводу энтимем, которые составляют суть доказательства, много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу; в самом деле: клевета, сострадание, гнев и другие тому подобные движения души относятся не к рассматриваемому судьею делу, а к самому судье (1354a)[121].
Аристотель решительно отвергает как позицию софистов, понимавших риторику лишь как искусство убеждения с помощью управления аффективными импульсами, так и точку зрения Платона, осудившего риторику в «Горгии» по тем же соображениям[122]. Критикуя софистов и Платона, Аристотель вычленяет в риторике рациональное ядро: доказательство или, вернее, доказательства. Связь между историографией в том смысле, в каком ее понимали в Новое время, и риторикой в аристотелевском значении следует искать здесь, при том что, как мы сразу увидим, наше представление о «доказательстве» сильно отличается от интерпретации этого понятия Аристотелем[123].
2
Аристотель различает три вида риторики: совещательную, эпидейктическую (то есть призванную хвалить или порицать) и судебную. Каждому из них соответствует свое временнóе измерение: будущее, настоящее и прошлое (1358b). Доказательства делятся на «технические» и «нетехнические». В числе последних философ упоминает «свидетельства, показания, данные под пыткой, письменные договоры и т. п.» (1355b)[124]. В афинском обществе IV века до н. э. записанный текст выполнял важную функцию, а рабов можно было на законных основаниях пытать[125]. Далее Аристотель добавляет к списку законы и клятвы, уточняя, что все эти доказательства относятся к сфере судебной риторики. Технические доказательства бывают двух родов: пример («paradeigma») и энтимема, которые в области риторики соответствуют индукции и силлогизму в области диалектики. Пример и энтимема относятся, соответственно, к совещательному и судебному ораторскому красноречию; похвала – к эпидейктическому. Аристотель продолжает:
Что же касается примеров, то
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.