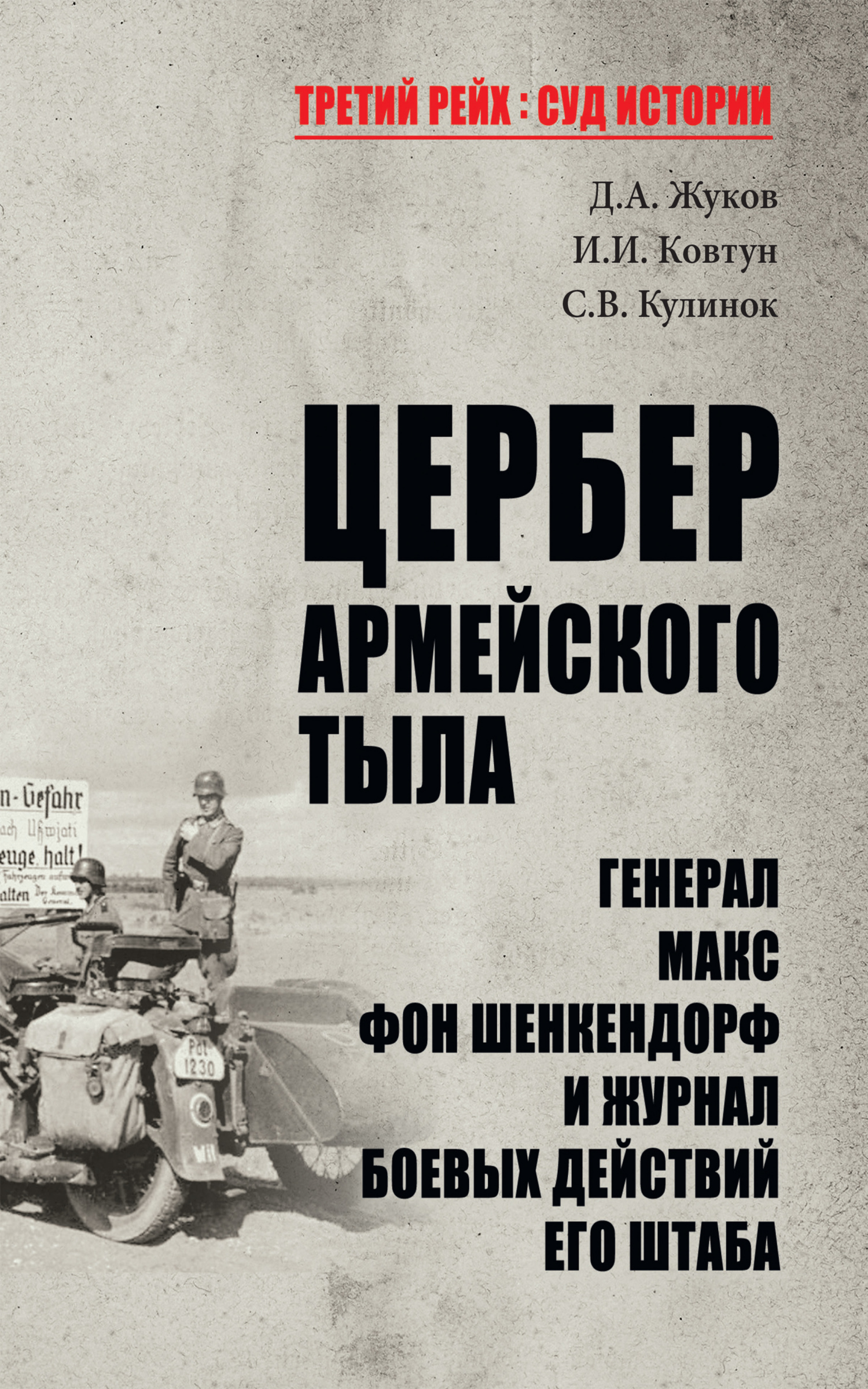Технология лжи. Нацистская антипартизанская пропаганда на оккупированных территориях СССР. 1941–1944 гг. - Иван Иванович Ковтун Страница 16
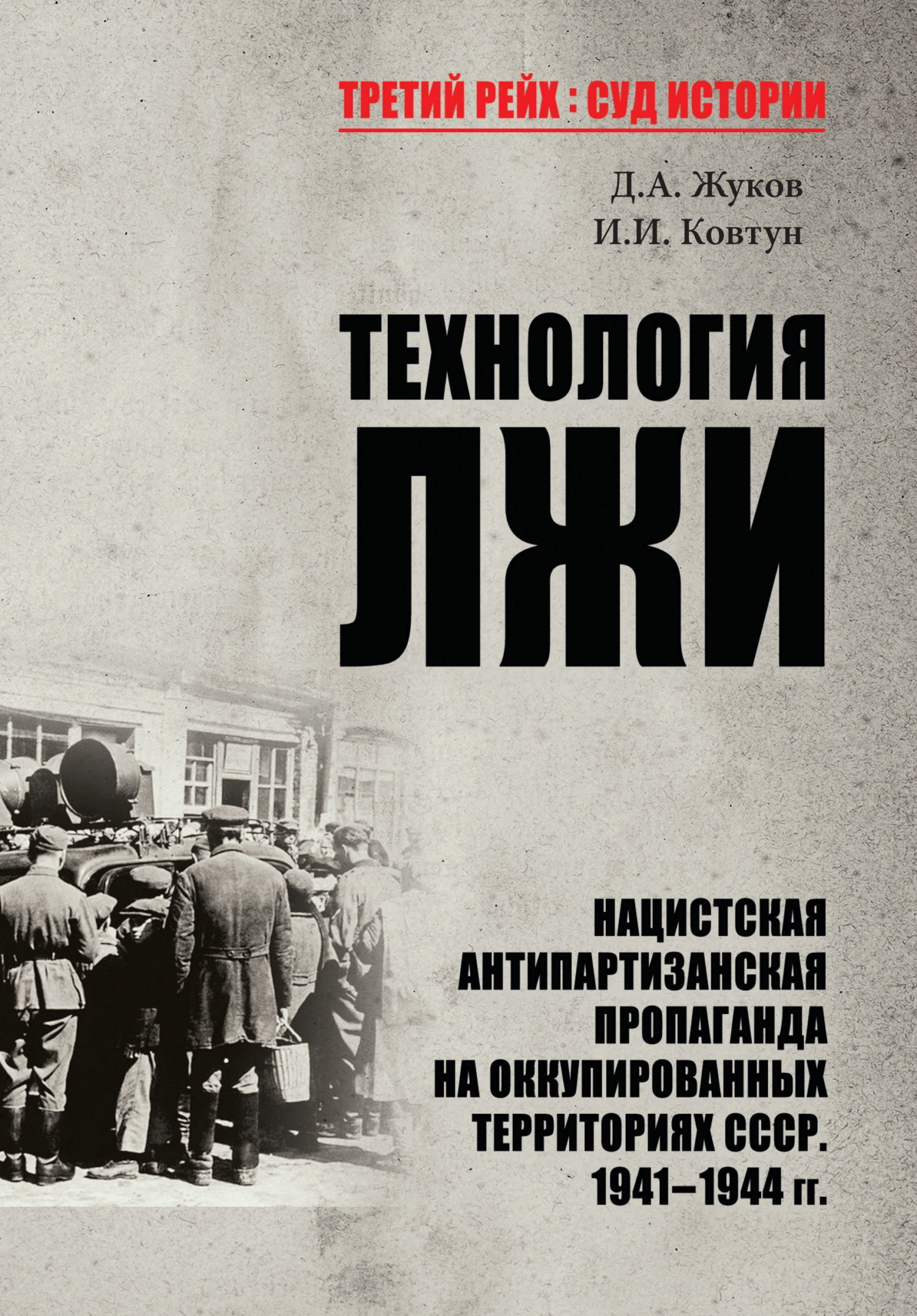
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Разная литература / Военная история
- Автор: Иван Иванович Ковтун
- Страниц: 34
- Добавлено: 2025-09-04 11:01:02
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Технология лжи. Нацистская антипартизанская пропаганда на оккупированных территориях СССР. 1941–1944 гг. - Иван Иванович Ковтун краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Технология лжи. Нацистская антипартизанская пропаганда на оккупированных территориях СССР. 1941–1944 гг. - Иван Иванович Ковтун» бесплатно полную версию:В годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР развернулось мощное партизанское движение. Нацисты пытались его подавить не только вооруженными средствами, но и с помощью пропаганды. Для дискредитации и разложения сил «народных мстителей» враг использовал разветвленный, насыщенный профессиональными кадрами пропагандистский аппарат, в рамках которого действовали представители вермахта, СС, имперских министерств Й. Геббельса и А. Розенберга. При непосредственном участии этих органов осуществлялось информационно-психологическое воздействие на партизан и население.
В новом исследовании известных российских историков Д.А. Жукова и И.И. Ковтуна комплексно раскрывается сущность такого явления, как антипартизанская пропаганда. Опираясь на огромный массив документов из отечественных и зарубежных архивов, авторы показывают, какие стратегии и методы психологической борьбы применялись на практике, анализируют содержание нацистской пропаганды и попытки противодействия ей со стороны советских патриотов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Технология лжи. Нацистская антипартизанская пропаганда на оккупированных территориях СССР. 1941–1944 гг. - Иван Иванович Ковтун читать онлайн бесплатно
При подготовке нападения на Советский Союз высшее военное командование достигло согласия с органами рейхсфюрера СС в вопросах, касавшихся использования в тылу сухопутных войск формирований «Черного ордена», предназначенных, как было отмечено в «Инструкции об особых областях к директиве № 21» от 31 марта 1941 г., для выполнения «специального задания» (под которым подразумевалось полное уничтожение еврейского населения)[169]. Решительных возражений по поводу того, чем будут заниматься подчиненные Гиммлера, со стороны военных не последовало, хотя они знали, какие, например, «акции умиротворения» проводили в Польше команды полиции безопасности и СД, батальоны полиции порядка и полки из состава частей СС «Мертвая голова». Теперь же речь шла о мероприятиях гораздо больших масштабов, в прифронтовой полосе и в районах, где предусматривалось управление рейхскомиссаров[170].
Анализируя содержание директив и распоряжений военного руководства Третьего рейха, становится ясно, что смысл приведенных выше приказов заключался в освобождении военнослужащих от ограничений цивилизованной войны. Такой подход был не реакцией на внешнюю угрозу, а сознательно выбранным вариантом превентивного террора[171].
Как показывает опыт многих войн, для успешного противодействия партизанам оккупационные власти не должны допускать применение незаконных силовых методов, не отвечать террором на террор и не поддаваться на провокации со стороны местных сил сопротивления. Силы сопротивления всегда будут заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть иноземную армию на более широкое применение террористических практик, поскольку эти действия ведут к всеобщему народному недовольству и дают в руки повстанцев аргументы для разжигания чувства мести и успешного ведения «пропаганды зверств»[172].
В случае с вермахтом мы сталкиваемся с совершенно другой картиной. Преступные приказы ОКВ – еще на стадии подготовки к войне – предопределили увеличение потенциала и массовости партизанского движения (впрочем, на первом этапе войны этот потенциал реализовывался далеко не в полной мере).
Подобные взгляды германского командования на партизанскую войну были обусловлены рядом причин. В немецком военном мышлении первой половины XX в. доминировал вполне устоявшийся образ войны на фронте между двумя массовыми армиями. «Если не считать недолговечных идей середины 1920‑х гг. о народной войне на своей территории, – отмечает историк П. Либ, – нерегулярные боевые действия не играли никакой роли в немецкой концепции будущей войны»[173]. В германских вооруженных силах не существовало тогда противоповстанческих доктрин. Методика борьбы с партизанами основывались на представлениях, характерных больше для XIX века. В рамках этих взглядов мятежи жестоко подавлялись, грабежи и реквизиции считались обычным явлением, как и репрессии против гражданских лиц или предполагаемых нерегулярных формирований. Само участие в операциях против повстанцев относилось к второстепенным вопросам военной науки[174].
Крайне негативное отношение немецких военных к партизанам было унаследовало еще со времен Франко-прусской войны 1870–1871 гг., когда войска короля Вильгельма I столкнулись с широким сопротивлением французских «вольных стрелков» и ополченцев – франтирёров – членов гражданских стрелковых обществ и бойцов добровольческих отрядов, перешедших к вооруженной борьбе после разгрома армии Наполеона III в битве при Седане[175]. Огневые засады вызывали у прусских солдат и офицеров ужас, который они преодолевали с помощью откровенно варварских приемов, беспощадно уничтожая местных жителей, если видели у них в руках оружие[176]. С тех пор слово «франтирёр» (немецкоязычный аналог – Freischärler) прочно вошло в военный лексикон и стало устойчиво ассоциироваться с подлыми и коварными действиями. Позднее на основе этого термина возникли понятия «франтирёрский синдром» (Franctieursyndrom)[177] и «психическая инфекция» (psychischer Infektion)[178], выражающие собой такое состояние немецких войск, которые для своей защиты используют все средства, включая расстрелы, сожжение населенных пунктов и захват заложников.
Проблема «партизанского психоза», тесно связанная с представлениями о «вольных стрелках», затрагивала не только личность военнослужащих, их страх перед внезапной смертью, но и становилась предметом для манипуляций со стороны вышестоящего командования. «Обвинения противника в анонимности», как замечает Ю. Айхенберг, играли существенную роль «при всех нарушениях правил ведения войны». Приписывание всем гражданским лицам коварных намерений как бы превращало их в потенциальных замаскированных комбатантов и террористов[179]. В. Ветте подчеркивает, что «перед войной против Советского Союза немецкое руководство сознательно пропагандировало страх перед партизанами», так как «это касалось гарантий радикального осуществления требуемых мер»[180].
Жестокость немецких войск, по мнению З. Найтцеля и Х. Вельцера, отражала взаимосвязь ощущения фактической опасности и момента традиции, присущего германской армии. Именно эти два базовых элемента превратили жестокость в обычный и в то же время необходимый инструмент вооруженных сил[181]. Применение этого инструмента нашло свое оправдание в последней книге генерала Э. Людендорфа «Тотальная война» (1935 г.). Корректируя идеи Клаузевица, Людендорф предлагал исходить из современных условий. Политика, заявлял он, является продолжением войны, понимаемой отныне как борьба нации за выживание, в которой больше нет запрещенных приемов[182].
Поскольку в будущей войне против Советского Союза можно было использовать почти все средства, то и приказы ОКВ демонстрировали пренебрежение к устоявшимся законам и обычаям войны. Хотя международное право того времени допускало репрессии в отношении иррегулярных формирований[183], руководство вермахта пересекло в своих директивах все красные линии, отделявшие войну цивилизованного типа от жестокого истребительного похода[184]. ОКВ распространило практику суровых наказаний на гражданское население, не вовлеченное в борьбу. Офицерам действующей армии разрешили самим определять степень виновности людей, лишь заподозренных в нарушении порядка[185].
По словам историка К.-М. Мальмана, «война на уничтожение против мирного населения, военнопленных, настоящих или мнимых партизан не была судьбой, в которую скатились немцы, а была решена еще до того, как нога солдата ступила на советскую землю»[186]. Эту же точку зрения разделяет и специалист по вопросам «малой войны» Т. Рихтер, указывающий на причастность вермахта к истребительной политике. «Преступные приказы и тесное сотрудничество с СС, – пишет он, – являлись зловещими предзнаменованиями войны, и курс на уничтожение был определен до начала русской кампании»[187]. Исследователь А. Крамер утверждает, что «приказ о комиссарах и декрет о военной юрисдикции привели к беспрецедентной радикализации расово-идеологической войны на уничтожение»[188].
Стратегия Гитлера в войне против Советского Союза основывалась на представлении, что операция «Барбаросса» как высочайшее проявление блицкрига должна повергнуть Россию одним ударом, чтобы затем появилась возможность подчинить и эксплуатировать завоеванное пространство[189]. Организованное сопротивление Красной армии планировалось сломить в первых же сражениях, и дальнейшее наступление должно было превратиться в «победный марш» и «полицейскую акцию». План «Барбаросса», вопреки мнению некоторых современных специалистов[190], учитывал как неизбежное расширение фронта вооруженной борьбы по мере продвижения вермахта в глубь советской территории, так и возникновение партизанского движения[191].
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.