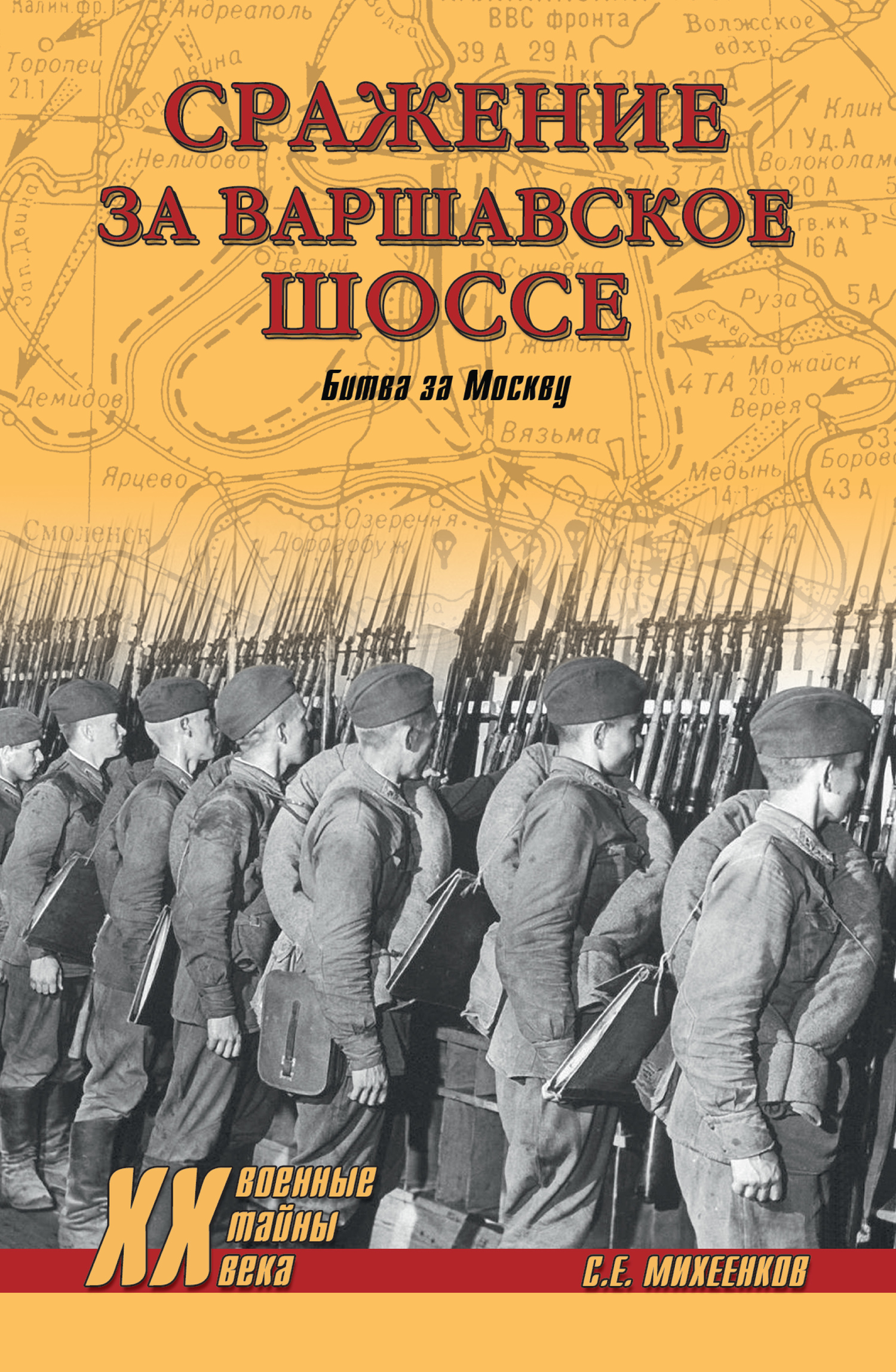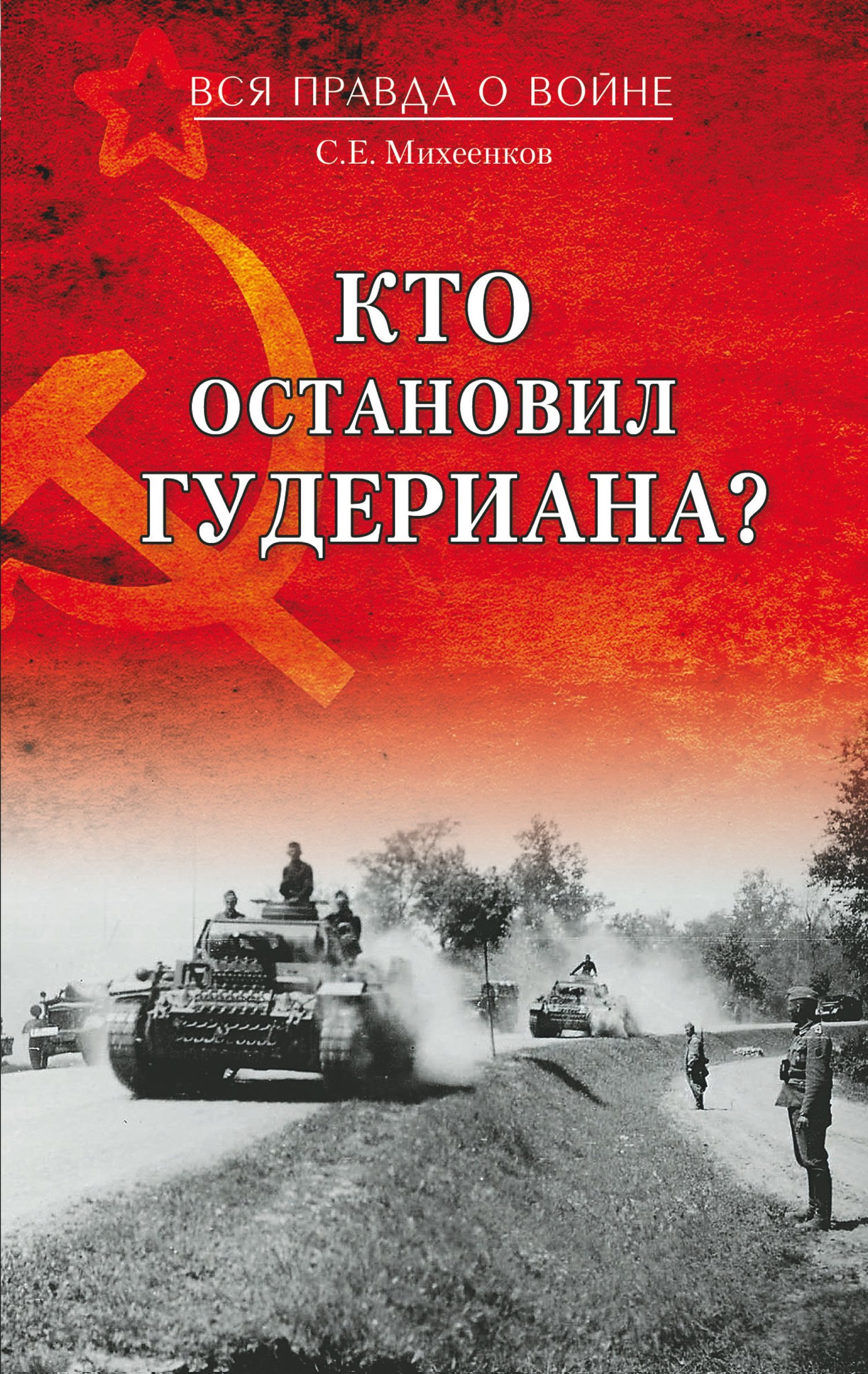Жуков. Танец победителя - Сергей Егорович Михеенков Страница 9

- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Разная литература / Прочее
- Автор: Сергей Егорович Михеенков
- Страниц: 40
- Добавлено: 2025-09-05 10:00:16
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Жуков. Танец победителя - Сергей Егорович Михеенков краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Жуков. Танец победителя - Сергей Егорович Михеенков» бесплатно полную версию:Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в Карлсхорсте в ночь с 8 на 9 мая. По окончании официальной церемонии присутствующих поразил советский представитель маршал Жуков. Он… пустился в пляс. Танец победителя, триумф русского характера и русской воли.
Не вступая в публицистические дискуссии вокруг фигуры Георгия Жукова, автор прежде всего исследует черты, которые закрепили за ним в истории высший титул – Маршала Победы. Внимательно прослежен его боевой путь до Рейхстага через самые ответственные участки фронта: те, что требовали незаурядного полководческого таланта или же несгибаемой воли.
Вольно или невольно сделавшись на пике славы политической фигурой, маршал немедленно вызвал на себя подозрения в «бонапартизме» и сфабрикованные обвинения. Масштаб личности Жукова оказался слишком велик, чтобы он мог удержаться наверху государственной пирамиды. Высокие посты при Сталине и при Хрущеве чередовались опалами и закончились отставкой, которую трудно назвать почетной. К счастью, народная память более благодарна. Автор надеется, что предлагаемый роман-биография послужит ее обогащению прежде всего.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Жуков. Танец победителя - Сергей Егорович Михеенков читать онлайн бесплатно
Программа обучения в трёхклассной церковно-приходской школе была довольно насыщенной. В первом классе осваивали письмо, объяснительное чтение, изучали арифметику, Закон Божий – знание Священной истории от Сотворения мира до Вознесения Христова, при этом надо было выучить шестнадцать молитв. Два последующих года дети изучали катехизис, Символ веры, правила богослужения с обязательным посещением храма и участием в службе. Кроме духовных предметов во втором отделении школьники осваивали чистописание, русское чтение, письмо.
Труднее всего Егору давалась грамматика русского языка. Это сказывалось и спустя годы – написанное приходилось проверять со словарём.
Было в программе и такое обязательное требование: за три года учёбы, включая два лета, ученик должен был прочитать двести книг произведений русских писателей, рекомендованных Министерством народного просвещения: Крылова, Державина, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Плещеева, Тургенева, Толстого, Аксакова…
Полный курс трёхклассной церковно-приходской школы в Величкове Егор Жуков окончил в 1906 году. Учитель Сергей Николаевич Ремизов вручил выпускнику похвальный лист с отличием и напутствовал самыми добрыми словами и пожеланиями.
9
Этот нарядный лист картона, куда рукой учителя Ремизова было вписано его имя, долго висел в доме Жуковых. И куда он впоследствии подевался, никто так и не вспомнил. Время вскоре так зашевелилось, так задвигалось, что не только картонные похвальные листы вместе с их владельцами, но и целые семьи, да что там семьи – сословия, исчезли с лица земли в бывшей Российской империи, ставшей Советской Россией.
Маршал навестил могилу отца. Кто-то ухаживал за ней. Покрасил оградку. На памятнике ни паутинки, ни сосновых иголок, которыми буквально засыпаны соседние холмики. Видать, кто-то приходил на Пасху. Крашенная луковой шелухой бурая яичная скорлупа. Яйца, видимо, съели бе́лки. Их здесь всегда была пропасть, бегали по могилкам, прыгали по крестам.
Могилу учителя он так и не нашёл. Сказал водителю, кивнув на безымянный полузатоптанный холмик, заросший мохом и черничником:
– Володя, налей стакан и положи хлеб. Туда, на ту могилу.
Водитель вытащил из корзины чистый стакан, наполнил его до пояска, сверху положил скибку хлеба и, раздвинув мох, поставил на холмик.
– Что, Георгий Константинович, кто-нибудь из родных?
Маршал ответил не сразу.
Влажная тень подлеска была раем для комаров. Они облепляли лицо и руки и будто гнали их с кладбища. Водитель срезал несколько побегов молодой липы, связал их в веничек и подал маршалу.
– Тут, Володя, везде родня. Одних только Жуковых вон сколько могил.
Искал маршал и ещё одну могилу – земского доктора Николая Васильевича Всесвятского. Когда-то доктор Всесвятский спас ему жизнь. В буквальном смысле. Вытащил из тифозной горячки. Но и этой могилы не нашёл. Как быстро время сравнивает свои курганы. Человеческая память крепче, надёжней. Но и она когда-нибудь исчезнет. Время, всемогущее время, и её растворит…
Прежде чем покинуть кладбище, они отыскали развалины часовни. Красные, покрытые мохом и лишаем кирпичи были разбросаны по всему периметру фундамента. Одна из арок уцелела, и по её очертаниям ещё можно было воссоздать в памяти и размеры часовни, и высоту её стен, и даже, по памяти, вообразить купола.
В двадцатых всё полетело к чёрту.
Как узнал он от земляков, Сергей Николаевич Ремизов в последние годы, уже в советские, собрал группу детей и занимался с ними здесь, в кладбищенской часовне, превратив её в школу. Новая власть ему не препятствовала. Однажды в часовню пришёл инспектор из отдела образования, посидел на занятиях, послушал, как Ремизов читает детям рассказ А. П. Чехова, пожал тому руку и ушёл.
Ни часовни, ни могилы учителя время не сохранило.
Глава вторая. Дядюшкина Москва, или когда Жукова начали называть Георгием Константиновичем
1
Константин Артемьевич, явно обрадованный школьными успехами сына, ещё не представляя его будущего, которое, как вскоре окажется, уже было определено московским шурином, на радостях подарил Егору только что скроенные сапоги. Мать сшила новую рубаху. Подарки были непраздными – родители собирали сына в Москву. И сапоги, и рубаха были на размер-полтора больше. Но вскоре Егор эти размеры догнал.
Пока Егор учился грамоте и Закону Божию в тихих классах Величковской школы, пока отплясывал перед изумлёнными девчатами на деревенских вечеринках, Россию потрясли два урагана: Русско-японская война (1904–1905) и первая русская революция (1905–1907). Империя устояла, но на невидимых часах стрелки вздрогнули и начали отсчитывать последние сроки. Местные же хроники отмечали следующее: «События, происходившие тогда в городской России, мало затронули Стрелковщину. Выборгское воззвание политизированной интеллигенции, обратившейся с призывом к народу начать кампанию гражданского неповиновения из-за роспуска Госдумы, оставило народ равнодушным. На повседневной жизни крестьян политическая борьба, как казалось здешним жителям, никак не отражалась. Столыпинская реформа в Стрелковщине и в целом в Калужской губернии провалилась. Мужики не хотели выходить из общины и угрожали «красным петухом» всем, кто попытается из неё выделиться. Привычный уклад жизни Огубской общины выдержал напор новых веяний. Хутора здесь не возникли. Несмотря на смутное время, не знали в крае и политического террора. Только в нижних, по течению Протвы, волостях эсеры пытались мутить народ, дрались в пьяном виде со своими противниками и грабили во имя «светлого идеала». Впрочем, и это случалось довольно редко»[2].
Михаил Артемьевич пересидел эти пробные землетрясения в Москве. В Чёрную Грязь отдохнуть и навестить родню приехал в 1908 году, когда всё успокоилось. Бранил и эсеров, и кадетов, и черносотенцев, и жидов, и правительство. Жалел только царя. Пилихин к тому времени не просто обжился в Москве, а по-настоящему разбогател. Когда-то его, подростком одиннадцати лет от роду, отдали в подмастерья. Пешком ушёл в Москву. И вот он теперь кто! А кто? Мастер-меховщик высочайшего класса! Владелец большой мастерской, целого, считай, цеха не меньше фабричного в самом центре Первопрестольной. Собственный магазин на Кузнецком Мосту – меха и кожа! Из Чёрной, как говорится, Грязи калужской – да на Кузнецкий Мост! Знай Пилихиных! Но что впереди? Когда империя зашаталась, устоять ли его цеху и магазину на Кузнецком Мосту?
В один из дней Михаил Артемьевич заехал и в Стрелковку, к сестре. Посмотрел на бедность родни, поинтересовался видами на урожай да уловлива ль рыбка на здешних омутах. Всё кругом в его хозяйских глазах выглядело тоскливым, даже берега Протвы и её омуты. Зато племянник, радостно сбежавший с крыльца навстречу дядюшке, произвёл хорошее впечатление – подрос, уже по-юношески раздался в плечах, крепкий, с умным, внимательным взглядом, с достоинством в движениях и осанке. Силу нагулял, да и ловкий, должно быть, не только в пляске. Взгляд не робкий,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.