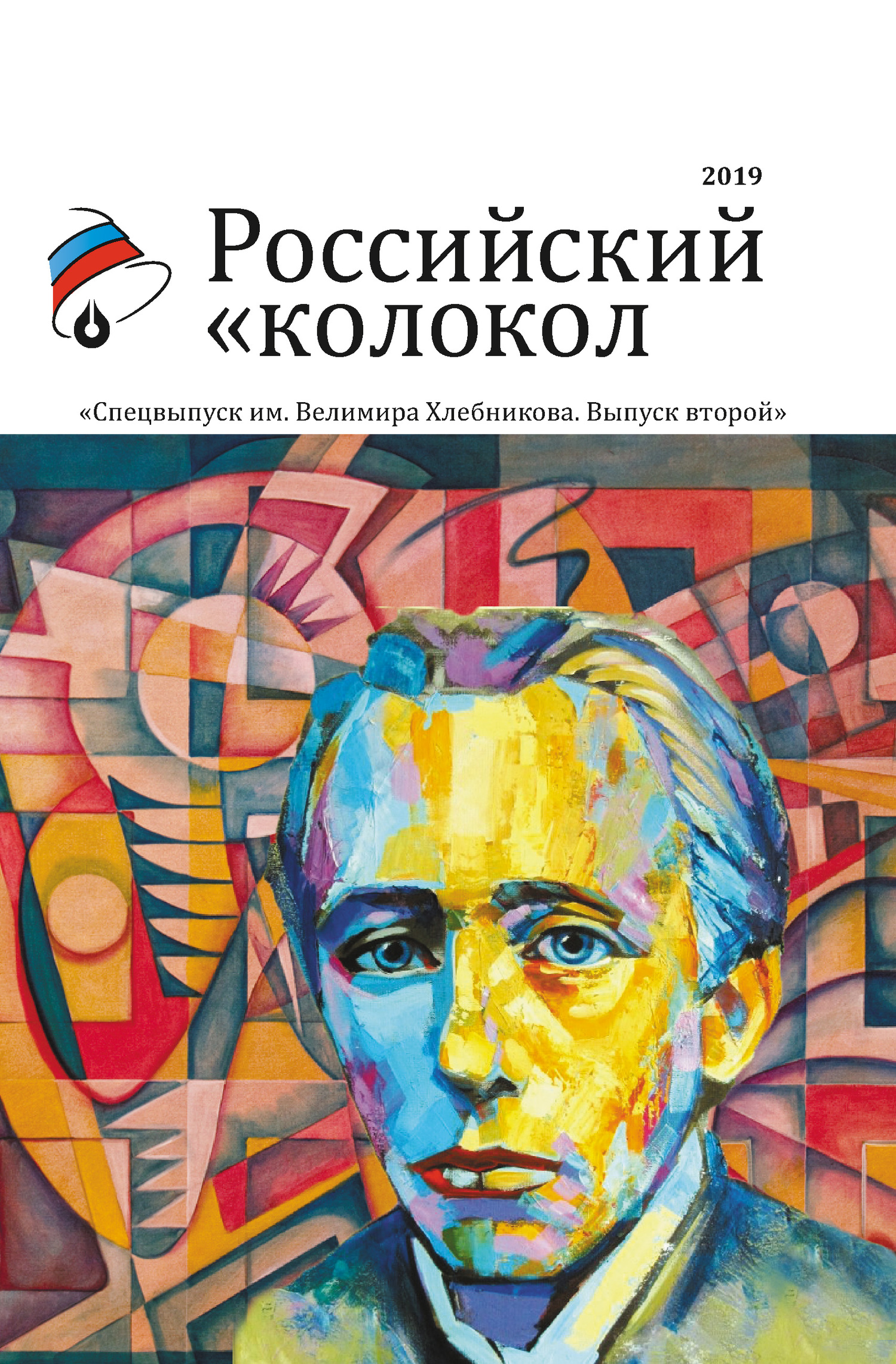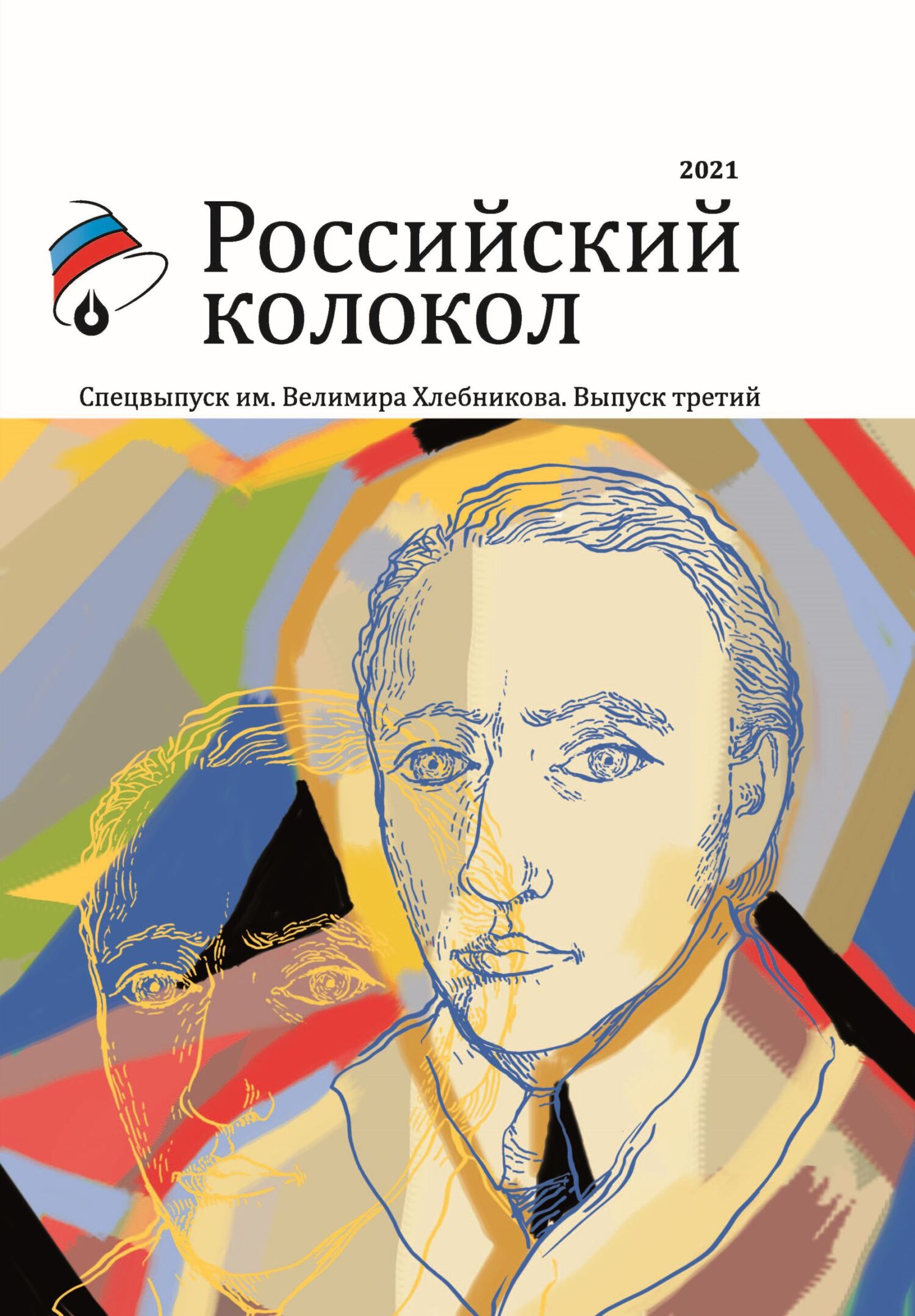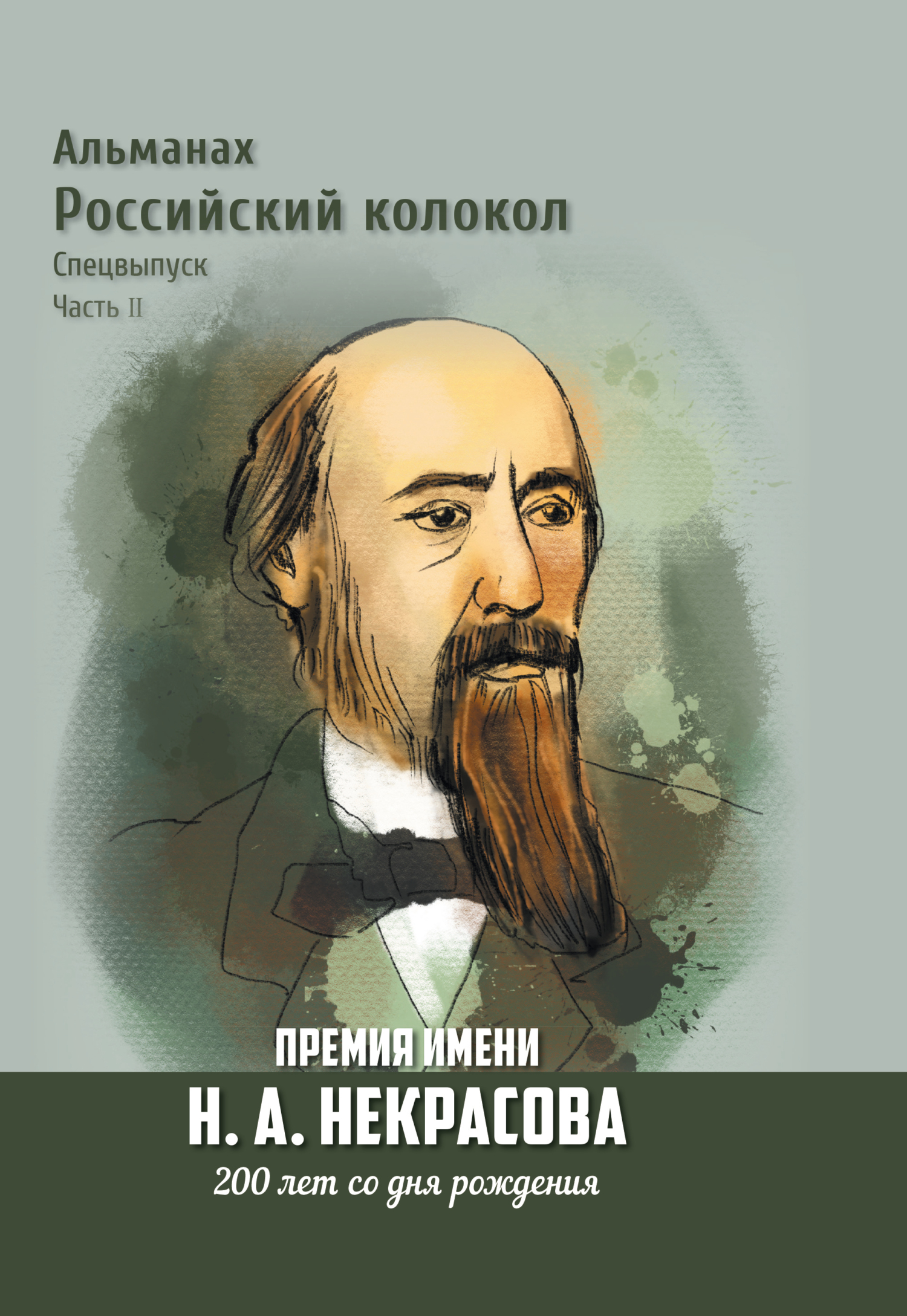Альманах «Российский колокол». Спецвыпуск «Истории любви». Выпуск №2 - Альманах Российский колокол Страница 24

- Категория: Разная литература / Газеты и журналы
- Автор: Альманах Российский колокол
- Страниц: 56
- Добавлено: 2025-09-05 09:02:25
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Альманах «Российский колокол». Спецвыпуск «Истории любви». Выпуск №2 - Альманах Российский колокол краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Альманах «Российский колокол». Спецвыпуск «Истории любви». Выпуск №2 - Альманах Российский колокол» бесплатно полную версию:«…Наслаждайтесь чувственными и романтичными строками, которые сегодня нам дарят авторы. Свои переживания они раскрывают в поэзии, прозе, песнях… И пусть ваша душа после прочтения нашего сборника согреется любовью. И, быть может, тогда позитива на планете будет больше, чем негатива. Приятного чтения…»
Альманах «Российский колокол». Спецвыпуск «Истории любви». Выпуск №2 - Альманах Российский колокол читать онлайн бесплатно
Он взглянул на календарь – тридцатое апреля. Шеллинг ужаснулся – прошёл уже почти месяц после обозначенной в контракте даты на сдачу рукописи – «Пасха, третье апреля». Всё это время Шеллинг не мог писать. Он не прикасался к своим трудам, целиком сосредоточившись на лекциях.
Тридцатое апреля – ночь на первое мая, значит, приближается Вальпургиева ночь, самое подходящее время для «ночных бдений». И Шеллинг вышел из дому побродить по ночному Мюнхену.
Когда он проходил мимо дома банкира, то опять, как и в пасхальную ночь, увидел группу людей, среди которых снова находился его студент-иудей Макс Лилиенталь.
– Я встречаю вас здесь второй раз. Вы, по-видимому, родственник Симона Селигмана?
– Нет, просто сосед. Захожу иногда к ним на субботу. Она как раз сейчас закончилась.
– Мы виделись здесь с вами месяц назад, в пасхальную ночь, вы помните? – спросил Шеллинг.
– Определённо, герр профессор.
– И нынешняя ночь точно такая же, то есть воскресная… Но только не пасхальная, а Вальпургиева.
– Вы не вполне правы, профессор, – улыбнулся Лилиенталь. – Нынешняя ночь не только снова воскресная, но и снова пасхальная. Взгляните на луну. Она вновь полная.
– Вы шутите! Что ж это у вас, каждый месяц Пасха?
– Положим, не каждый, но два раза в году – определённо. Если бы Иерусалимский храм не был разрушен, то завтра утром на святой горе вторично закалывались бы пасхальные агнцы – этот праздник именуется Песах Шейни, Второй Песах, его празднуют в месяце ияре.
– Вот как, – удивился Шеллинг. – Опять Песах, значит. Какое зловещее совпадение! Воскресная Вальпургиева ночь совпадает с пасхальной ночью евреев! Уж не знаю, чего можно ждать от этой ночи…
И, раскланявшись с озадаченным студентом, Шеллинг побрёл по направлению к дому.
19 апреля (1 мая)
Москва
В этот воскресный день профессор русской истории Московского университета тридцатишестилетний Михаил Петрович Погодин собрал на обед полтора десятка своих коллег и друзей.
Дни в Златоглавой стояли тёплые, и впервые в этом году пообедать можно было не в гостиной, а в просторном саду погодинского дома на Девичьем поле.
После обеда все разбрелись маленькими кружками. Рядом с Погодиным оказались «басманный философ» Пётр Чаадаев, редактор «Наблюдателя» Василий Петрович Андросов и профессор филологии Владимир Печерин.
– Вы слышали, господа, что вышел наконец первый номер «Современника»? – поинтересовался Андросов.
– Не только слышал, но вчера уже вертел его в руках, – с некоторым пренебрежением ответил Чаадаев. – Но что за название такое – «Современник»? Современник чего? Шестнадцатого столетия, из которого мы никак не выкарабкаемся?
– Оставьте, Пётр Яковлевич, – усмехнулся Погодин. – Для того этот журнал, наверно, и задумывался, чтобы вырвать Россию из средневековья. А название мне кажется замечательным. Мы ведь живём в какое-то особенное время, в которое человечество окончательно повзрослело. Вам разве не кажется? Отныне все люди, которые придут после нас, будут нашими современниками. Кант и Шеллинг превратили своё время во время всех бывших и будущих эпох!
– С этим я, пожалуй, согласен, – произнёс Чаадаев. – История подошла к своему завершению. По этому вопросу даже Шеллинг с Гегелем не спорят. Конец Великой Поэмы, авторство которой Шеллинг приписывает Мировому Духу, не за горами.
Слова эти были глубоко прочувствованы. Пётр Яковлевич не сомневался, что таинственный час действительно приближается, и даже решил внести в историю свою лепту. На эту встречу на Девичьем поле он принёс рукопись своих «Философических писем», чтобы передать их Андросову. Вдруг тот решится опубликовать их в «Московском наблюдателе».
– Не помню такой тёплой весны, – проговорил Погодин. – Не помню, чтобы когда-нибудь в середине апреля вот так сирень расцветала.
– Это у нас апрель, а в Европе сегодня уже 1 мая, – заметил профессор Печерин.
– В чём-то мы отстаём от Запада на двенадцать дней, а в чём-то – на двенадцать веков! – проронил Чаадаев. – Примерно столько столетий минуло с тех пор, как в Римской империи повально стали освобождать рабов. А у нас рабство и поныне цветёт, как майская сирень.
– Но подумайте только, – горячо возразил Андросов, – как народ наш преобразится после того, как это рабство повсеместно отменится и крестьянские дети отправятся в школы!
– А у меня, признаться, воображения не хватает это представить, – уныло выговорил Печерин. – Везде это холопство, отовсюду оно прёт и повсюду всё подавляет. Я тут раз возвращаюсь домой и вижу: на крыльце сидит нищая старуха. Оказалась моей крестьянкой из села Навольново.
«Видишь ты, батюшка, – говорит, – староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай милость да напиши им приказ, чтоб они выдали дочь мою Акулину за парня такого-то».
Я взял листок бумаги и написал высочайший приказ: «С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то. Быть по сему. Владимир Печерин». В первый и последний раз в моей жизни я совершил самовластный акт помещика и отослал старуху. Весь этот наш с вами протест, господа, в рамках того же барства протекает. Не имеем мы никакой опоры, чтобы вырваться из этой трясины.
– Опора – в религии, – многозначительно возразил Чаадаев. – На Западе первые случаи освобождения были религиозными актами, они совершались перед алтарём и в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro redemptione animae – ради искупления души. А у нас закабаление идёт при полном попустительстве церкви.
– А мне иногда кажется, что это размеры погубили Россию, – заметил Печерин. – У нас народ никогда всерьёз с властью не боролся, просто бежал на Восток, бежал на Дон к казакам. В такой ситуации образованным людям не остаётся ничего другого, как бежать на Запад. Помните, как Мельгунов в «Путевых очерках» описал своё первое чувство, с которым сошёл с корабля на европейскую землю?
– Не помню, но могу догадаться, – усмехнулся Чаадаев.
– Он писал о «неизъяснимом чувстве блаженства», о «чувстве заключённого, который после долгого заточения вдруг был выпущен на свет Божий», что-то в этом роде.
– Надо же! – удивился Чаадаев. – И цензура пропустила!
2 (14) мая
Москва
29 апреля, по завершении месячного траура по матери, Пушкин выехал из Петербурга в Москву. 1 мая он заночевал в Твери и под самый вечер 2-го подкатил ко двору своего давнего друга Павла Воиновича Нащокина.
Пушкин был знаком с ним ещё по Царскому Селу, но по-настоящему сблизился в 1826 году, после Михайловской ссылки. Они жили в Москве несколько лет на одной квартире, секретов друг от друга не держали и наиболее щекотливые из них завели себе в обычай обсуждать в бане. Обычно ходили они в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.