Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов Страница 31
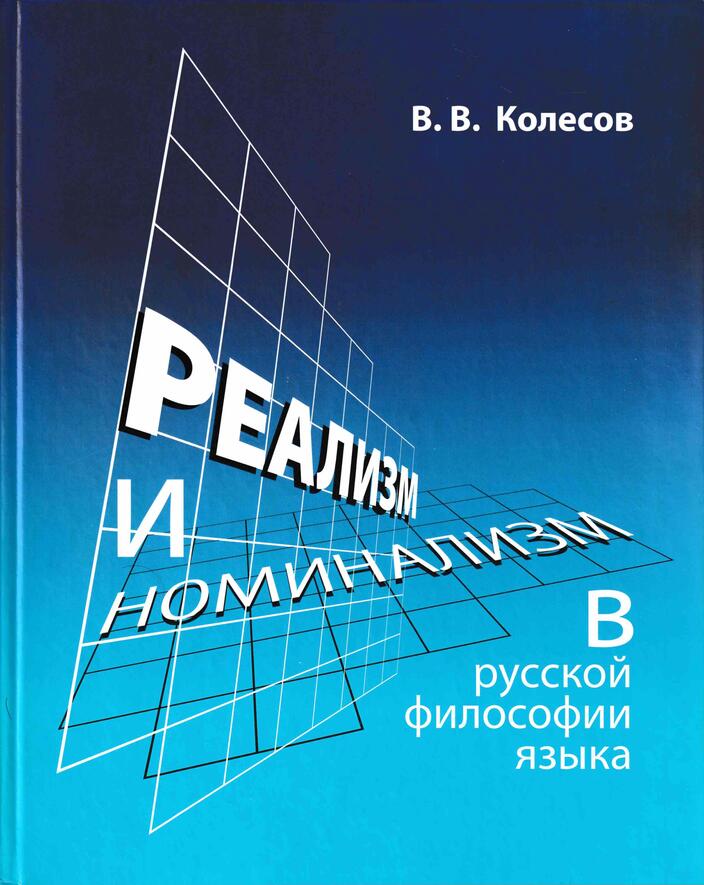
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Языкознание
- Автор: Владимир Викторович Колесов
- Страниц: 221
- Добавлено: 2025-08-31 21:01:17
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов» бесплатно полную версию:Книга представляет собой опыт герменевтического толкования философских текстов мыслителей XVIII – XX веков. Показано столкновение русского реализма и западного номинализма в границах выявления в языке и в речи концептуальной сущности бытия как Логоса. Рассмотрены достоинства и недостатки обеих точек зрения на общем фоне общественной и социальной жизни России переломной ее эпохи, объяснены причины русского «уклонения» в концептуализм и намечены пути выхода из создавшегося тупика. Законченность развития этой культурной парадигмы дает возможность весь процесс представить последовательно, достоверно и максимально точно.
Книга может быть рекомендована лингвистам, работающим в области философии, и философам, не чуждым лингвистики, а также всем тем, кто интересуется историей русской мысли в момент ее расцвета.
•
Каждая книга Владимира Викторовича Колесова встречается читателями с неизменным интересом.
В.В. Колесов – доктор филологических наук, профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Гуманитарной и Петровской академий, лауреат многих премий, автор более 500 научных работ, среди которых фундаментальные монографии
· «История русского ударения»,
· «Древняя Русь: наследие в слове»,
· «Слово и дело. Из истории русских слов»,
· «Древнерусский литературный язык»,
· «Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра»,
· «История русского языкознания»,
· «Язык города»,
· «История русского языка в рассказах»,
· «Культура речи – культура поведения»,
· «История русского языка»
и другие.
Впервые издаваемая книга «Реализм и номинализм в русской философии языка» органично включается в цикл исследований автора по философии языка:
· «Философия русского слова»,
· «Язык и ментальность»,
· «Русская ментальность в языке и в тексте».
Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов читать онлайн бесплатно
При этом он выводит такое определение за пределы Понятия:
«Говорят о справедливой, несправедливой, заслуженной судьбе, используют понятие судьбы для объяснения, т.е. в качестве причины определяют состояния и судьбы индивидуумов. Здесь имеет место внешняя связь между причиной и действием, благодаря которой на индивидуума обрушивается наследованное зло, древнее проклятие, тяготеющее над его домом, и т.д.» (Гегель 1977: II, 137)
– это как бы потусторонняя причина, связь причин и следствий и конечная причина – Судьба. Вообще же
«фатум есть нечто лишенное понятия, где справедливость и несправедливость исчезают в абстракции; напротив, в трагедии судьба выступает внутри сферы нравственной справедливости» (там же: 155)
– не непостижимая и слепая, а истинная справедливость. Гегель колеблется в характеристике этой силы, он склонен считать ее «образом»:
«Над прекрасными и особенными целями витает всеобщее как бессубъектная сила, лишенная мудрости, неопределенная в себе, – это фатум, холодная необходимость. Правда, необходимость есть развитие сущности, развивающей свою видимость в форму самостоятельных реальностей, и моменты видимости выступают как различенные образы. Но в себе эти моменты идентичны, поэтому они не принимаются всерьез, всерьез принимается только судьба, внутреннее тождество различий» (там же: 84).
Таким образом, для Гегеля судьба – это инвариант образных проявлений фатума, который скорее символ, чем образ, однако Гегель о символе не говорит.
Наоборот, для Шеллинга «неумолимая судьба» предстает как «незримая сила», определенно сродни символу; «эта сила есть всемогущество (фатум)» как «скрытая свобода», «совершенно слепая сила, холодно и бессознательно разрушающая всё великое и прекрасное», и
«эту силу, которая через наше действование без нашего ведома и даже против нашей воли осуществляет не представляемые нами цели, мы называем судьбой»,
и она действует с
«совершенно слепой предопределенностью, которая находит свое выражение в темном понятии судьбы»
– «но что же такое судьба?»,
«ибо провидение и судьба и есть здесь именно то, что должно быть объяснено» (Шеллинг 1987: I, 84, 417, 465, 475, 463, 458).
Неуверенные определения с колебанием между образом и понятием дают основание говорить, что судьбу Шеллинг представлял как «образное понятие», т.е. символ. «Объяснить» можно символ и образ, понятию дается определение, его нужно «определить».
Так развивалась идея «судьбы» в классической немецкой философии: от Лейбница в образе, через Гегеля в понятии к Шеллингу в символе.
3. Энтелехия сущего
Диалектика раздвоения смысла и удвоение форм на уровне понятия неизбежно приводит к определенной последовательности в осознании постоянно изменяющегося объекта. Поскольку познание осуществляется и фиксируется в понятиях, само осознание проходит двойной путь: сначала осознание объемов, затем – осознание содержаний, и только как завершающий момент такого двойного кружения вокруг сущего возникает, наконец, синтез: осознание содержательных форм слова как последовательно воплощающих наше понятие о сущем.
Первое движение мысли в квалификации ею объемов мы только что описали:
Объект Субъект Гносеология Гегель Кант Онтология Шеллинг ЛейбницЭто движение усолонь от Лейбница к Шеллингу по типу движения в границах денотата D и референта R. Завершенность парадигмы на символическом уровне в его противоположности (онтологический субъективизм есть уже позитивизм) дает толчок новому движению мысли – в противоположную сторону. Позитивисты интересуются объектом как бытием; их онтологическая установка требует метода с выходом в гносеологию. Она и развивалась в границах самого позитивизма, преодолевая его ограниченность в форме феноменологизма, и тогда начался новый круг движения вокруг сущности, но уже в обратном направлении – посолонь: от феноменологизма к интуитивизму.
Перемещение внимания с объема (с денотата и, следовательно, с предметного значения) на содержание понятия (на десигнат и, следовательно, на значение, которое в системе преобразуется – усиливая свои степени – в значимость: схождение значения и смысла) изменяет всю перспективу осознания сущего, как это может быть представлено схематически на «концептуальном квадрате» (Колесов 2002: 43 – 47, 53).
Во втором кружении мысль отказывается следить за объектом феноменом, поскольку ее не интересует теперь феномен (вещь, или даже предмет), а только признаки его различения: отношение их друг к другу и возможность системы представляется более важными, чем сами элементы (субстанции разного уровня).
Отношение и становится объектом осознания на новом витке познания.
Изменились научные принципы. XIX век руководствовался принципами Лейбница – принципом непрерывности и принципом актуализации. Согласно первому – мир непрерывен, и всё развивается; отсюда и господство анализа, без нарушения цельности позволявшего изучать по частям всё целое, и детерминизм, объяснявший всё действием законов и признававший причинность как основание всякого изменения. Согласно второму – свойства вещей и сами вещи всегда и всюду таковы же, каковы они здесь и теперь.
С начала XX века принципы изменились, и мир предстал в иной перспективе, отчасти связанной с тем движением «по кругу содержаний», о котором мы только что говорили. Теперь в чести, с одной стороны, совершенно иной принцип – принцип дискретности, представляющий мир как совокупность элементов в прерывности их действий, их свойств, да и их самих; отсюда усиление внимания к вероятности событий и элементов в ущерб их причинной обусловленности. С другой стороны – это принцип относительности, смещающий внимание с элементов на отношения между ними. По современным понятиям изменяются не субстанции, а отношения между ними. Мир создается, каждый раз представая совершенно другим. Это накладывает свой отпечаток на философию, в том числе и на русскую.
Идущее от Ареопагитик предпочтение энергии движения (энтелехии) – постижению сущности, которая известна по определению и есть… Но что она есть, о том скажет по-разному представитель любой другой школы… Синонимов много, именно ими распознаются школы. Не концепт, в который вернулись с обогащенным по смыслу культурным символом, а энтелехия кажется важным для поисков предметом изучения. Такова динамика Преображения, каждый раз ведущая к построению новых парадигм, но уже в укрупненном, расширенном, углубленном по содержанию смысле: вещь > предмет > объект… признак > связь > отношение… слово > Слово > Логос… То, что некогда было как бы со стороны, что постигалось с помощью метаязыка и формулировалось в символических формах, становится теперь – напрямую – предметом личного взгляда, субъективируется донельзя, поскольку объекту противоположны вовсе не вещь, не предмет даже – но другой объект.
4. Развитие идей
Преодоление ограниченности (односторонности) философских направлений XIX века ввергает мысль каждый раз, на уровне любой содержательной формы
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


