Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов Страница 28
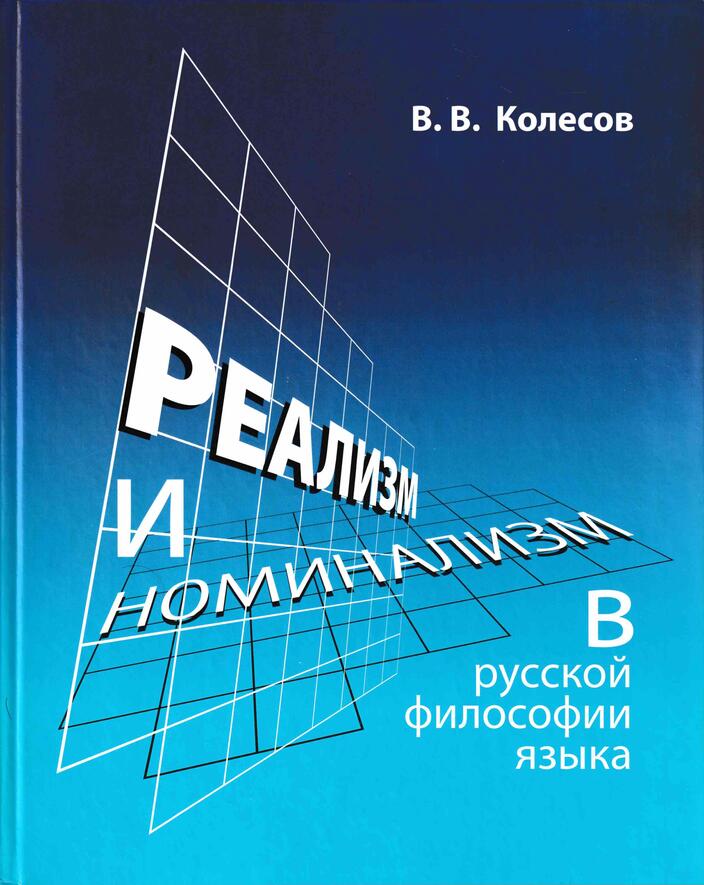
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Языкознание
- Автор: Владимир Викторович Колесов
- Страниц: 221
- Добавлено: 2025-08-31 21:01:17
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов» бесплатно полную версию:Книга представляет собой опыт герменевтического толкования философских текстов мыслителей XVIII – XX веков. Показано столкновение русского реализма и западного номинализма в границах выявления в языке и в речи концептуальной сущности бытия как Логоса. Рассмотрены достоинства и недостатки обеих точек зрения на общем фоне общественной и социальной жизни России переломной ее эпохи, объяснены причины русского «уклонения» в концептуализм и намечены пути выхода из создавшегося тупика. Законченность развития этой культурной парадигмы дает возможность весь процесс представить последовательно, достоверно и максимально точно.
Книга может быть рекомендована лингвистам, работающим в области философии, и философам, не чуждым лингвистики, а также всем тем, кто интересуется историей русской мысли в момент ее расцвета.
•
Каждая книга Владимира Викторовича Колесова встречается читателями с неизменным интересом.
В.В. Колесов – доктор филологических наук, профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Гуманитарной и Петровской академий, лауреат многих премий, автор более 500 научных работ, среди которых фундаментальные монографии
· «История русского ударения»,
· «Древняя Русь: наследие в слове»,
· «Слово и дело. Из истории русских слов»,
· «Древнерусский литературный язык»,
· «Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра»,
· «История русского языкознания»,
· «Язык города»,
· «История русского языка в рассказах»,
· «Культура речи – культура поведения»,
· «История русского языка»
и другие.
Впервые издаваемая книга «Реализм и номинализм в русской философии языка» органично включается в цикл исследований автора по философии языка:
· «Философия русского слова»,
· «Язык и ментальность»,
· «Русская ментальность в языке и в тексте».
Реализм и номинализм в русской философии языка - Владимир Викторович Колесов читать онлайн бесплатно
поскольку
«результат только потому тождествен началу, что начало есть цель» (там же: 2 и 11).
«Точно так же различие есть скорее граница существа дела» (там же: 2),
но только
«неодноименное притягивается» (там же: 85),
тогда как
«одноименное <…> разлагается на противоположность» (там же: 86)
и тем отталкивается; поэтому
«надо мыслить чистую смену, или противоположение внутри себя от себя самого, т.е. противоречие» (там же: 88).
«Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее» (там же: 3),
поскольку и
«знание действительно и может быть изложено только как наука или как система, поскольку и истинное действительно только как система» (там же: 12),
хотя при этом каждая
«наука должна организоваться только собственной жизнью понятия» (там же: 28).
«Истинное есть ценное. Но целое есть только сущность, завершающаяся через свое развитие» (там же: 10).
«Начало, принцип или абсолютное <…> есть только всеобщее» (там же: 10).
«Философия должна остерегаться желания быть назидательной» (там же: 5),
поскольку
«разум есть целесообразное действовавание» (там же: 11 ),
а
«известное вообще – от того, что оно известно, еще не познано»:
анализировать – значит «снять форму» известности, а это и есть деятельность разложения с помощью рассудка (там же: 16) и его понятий.
Необходимо высказаться и против эмпиризма («они собирают в своей области кучу материала…» (там же: 7)), и против «одноцветного формализма», доходящего до схематизма («наивность пустоты в познании» (там же: 8)), провозглашающего, что форма равна сущности (там же: 21), и против догматизма, риторики или номиналистического увлечения терминами; Гегель и против романтиков типа Шеллинга, иногда отрицающих важность рассудка и форм рассудочного понятийного мышления. Больше всего – и справедливо – его возмущает скептицизм, «неспокойное мышление скептицизма» (там же: 116); здесь полное согласие с Кантом, утверждавшим, что скептицизм – это порождение безнадзорной диалектики.
«Явление есть возникновение и исчезновение, которые сами не возникают и не исчезают, а есть в себе и составляют действительность и движение жизни истины» (там же: 24 – 25),
«но это движение и есть то, что называется силой <…> но сила есть также целое» (там же: 73),
а средний термин игры сил
«называется поэтому явлением (Erscheinung)» (там же: 77);
при этом явление
«не есть мир чувственного знания и воспринимания как мир сущий, а мир, который установлен как мир снятый или поистине как внутренний»,
определяемый своими собственными законами (там же: 79); в отличие от этого
«сущность есть бесконечность как снятость всех различий, чистое движение вокруг оси…» (там же: 95).
Эти высказывания возвращают нас к проблеме содержательных форм слова, которые суть явления собственной сущности – концепта как снятости всех различий, как чистое движение вокруг оси…
Отсюда уже вытекает, что и
«метод есть не что иное, как всё сооружение в целом, воздвигнутое в его чистой существенности» (там же: 25);
что метод и предмет определяются друг другом:
«предмет по существу есть то же, что и движение; движение есть развертывание и различение моментов, предмет – нахождение их в совокупности» (там же: 60),
«предмет есть истинное и всеобщее» (там же: 63),
«есть противоположное себе самому» (там же: 68).
Μ.К. Мамардашвили идет дальше, утверждая, что у Гегеля
«метод отождествляется с теорией»,
что
«метод и есть теория познания, другой теории познания для Гегеля не существует» (Мамардашвили 1968: 135 – 136).
«Для мышления предмет движется не в представлениях или образах, а в понятиях <…> но понятие есть в то же время нечто сущее» (Гегель 1992: 107):
«если мы назовем понятием движение знания, а предметом – знание как покоящееся единство, или „я“, то мы увидим, что не только для нас, но для самого знания предмет соответствует понятию» (там же: 93).
Таков этот выход на объективно существующее Понятие, которое в устах Гегеля подменяет собою концепт. Возвращение в концептум предполагает конструирование концептуса-понятия как ближайшей к нему содержательной формы.
2. Сознание, познание, знание
В познании и накоплении знания участвуют сознание и опыт. Сознание – это рассудок, а самосознание – разум (там же: 124), т.е. достоверность сознания;
«сознание наблюдает <…> разум <…> познает вещи, превращает их чувственность в понятия…» (там же: 130 – 131).
Дух в своем развитии проходит следующие моменты: сознание – самосознание – разум – дух (там же: 364). Всё вместе (одномоментность такого движения) и есть по-знание. Заметна, между прочим, зависимость от предшественников, но с включением четвертого субъекта:
1) Духа как воплощения концептуального поля; ср. у Канта рассудок;
2) способности суждения – разум, а у Шеллинга чувство – рассудок – разум.
Соответствующее движение можно обозначить не через функции или «инструменты» познания, а по его результатам: знание – сознание – осознание, все вместе образующие познание. В иных терминах это значит, что в процессе познания важнейшую роль играет язык – носитель всех связей и отношений, представленных в диалектическом процессе познания, а на уровне значения слова непосредственно воплощающий именно принцип познания (S).
«Язык как действительность отчуждения» (там же: 272)
провозглашает и Гегель, в отличие от Канта осознавший, что, не в пример чистой мысли, даже подвергнутой критике,
«язык, как мы видим, правдивее; в нем мы сами непосредственно опровергаем свое мнение (Meinung)» (там же: 53).
Сказанным определяется, по Гегелю, и последовательность форм научного познания.
Сначала эмпирически представленное описание –
«поверхностное извлечение из единичности и столь же поверхностная форма всеобщности <…> это описание вещей еще не имеет движения в самом предмете; движение это, напротив, только в самом описании» (там же: 131),
поскольку
«единичный облик <…> в качестве мнимого бытия нельзя выразить в словах» (там же: 171),
знаменующих не единичное, но всеобщее (как и понятие отражает не единичное, но особенное).
Затем следует указание признаков – различение существенного и несущественного:
«из чувственного рассеяния подымается понятие» (там же: 132);
на основе найденных признаков происходит нахождение законов, а
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


