Размышления о гуманной педагогике - Шалва Александрович Амонашвили Страница 18
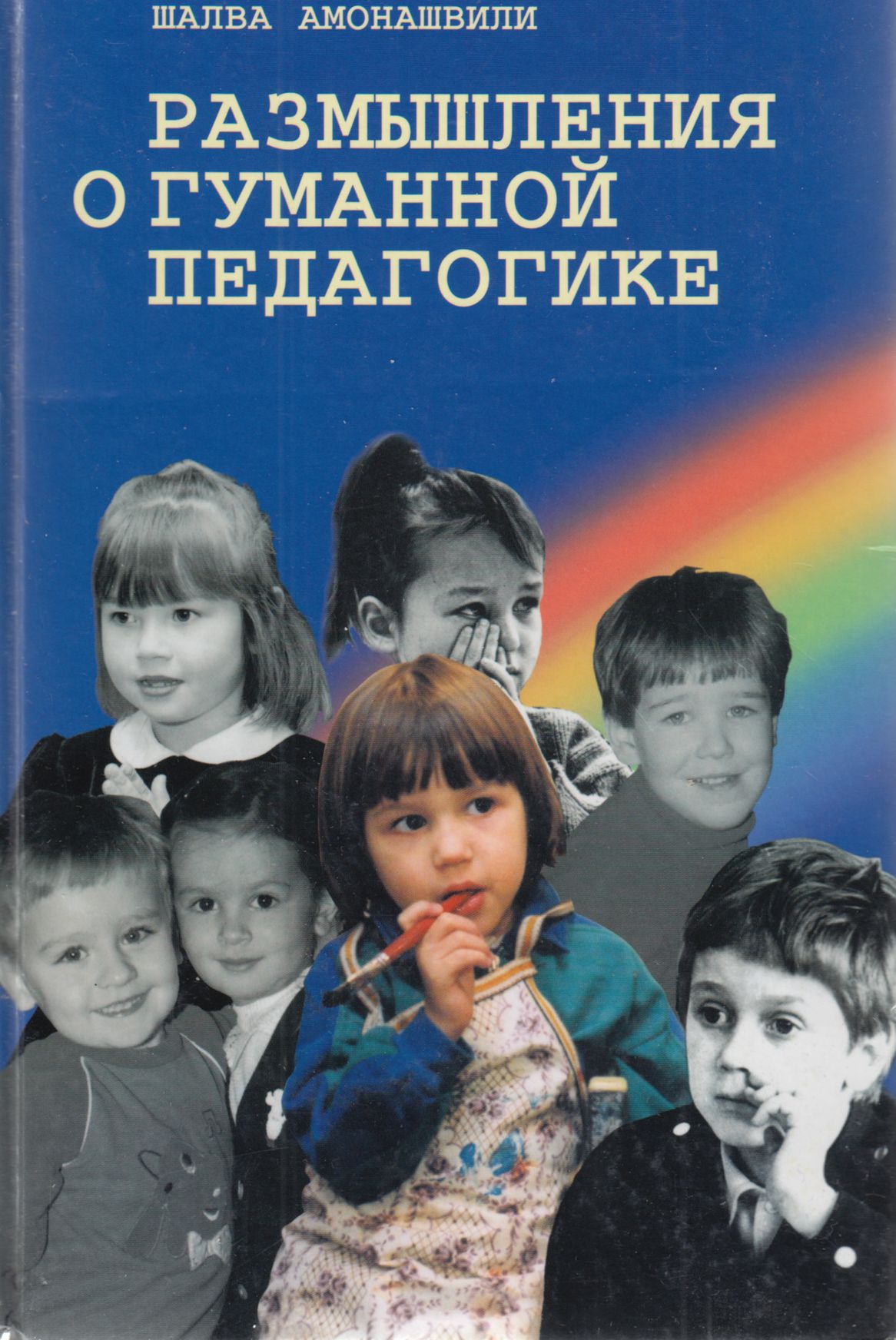
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Воспитание детей, педагогика
- Автор: Шалва Александрович Амонашвили
- Страниц: 156
- Добавлено: 2025-09-05 19:00:54
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Размышления о гуманной педагогике - Шалва Александрович Амонашвили краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Размышления о гуманной педагогике - Шалва Александрович Амонашвили» бесплатно полную версию:Известный Учитель, почетный член Российской Академии образования Ш.А. Амонашвили, опираясь на научные факты, данные экспериментов, используя богатый личный опыт, анализирует суть авторитарно-императивного педагогического мышления и практики, укоренившейся в советской общеобразовательной школе, размышляет об истоках Гуманной Педагогики.
Размышления сопровождаются описанием уроков, отдельных методов и приемов, образными картинами жизни детей в школе. Каждая встреча-беседа заканчивается деловой педагогической игрой, наглядно демонстрирующей, как реализуются на практике новые педагогические идеи.
Со времени появления первого издания этой книги и созданном Ш.А. Амонашвили Издательском Доме подготовлено 50 и вышло в свет 35 томов произведений выдающихся мыслителей человечества, составляющих духовно-нравственную основу гуманного педагогического мышления.
Размышления о гуманной педагогике - Шалва Александрович Амонашвили читать онлайн бесплатно
Вас, высокочтимый Учитель, мучает то обстоятельство, что ребенок может возненавидеть учение, которое ему следовало бы полюбить. Вы, разумеется, прекрасно понимаете, что от того, как ребенок относится к учению, зависит его успех в учении. Любишь учиться — познаешь больше, ненавидишь учиться — тебе не будет открыт храм мудрости. Повтори эту мудрость авторитарным учителям — сразу навлечешь на себя ту же самую реакцию, которая, как я полагаю, не раз обрушивалась и на Вас. Авторитары не хотят верить, что ребенок может полюбить учение, что он может найти в нем удовлетворение. Это, считают они, редкое явление и исключение; но законом является то, считают они, что дети от природы такие — не хотят учиться, у них природная лень к учению.
Вас не возмущает, высокочтимый Учитель, такое противостояние? Как же нам доказать авторитарам, что дети рождены именно для того, чтобы познавать действительность и творить? Вы хотите уличить их: «Ведь мы несправедливо жалуемся, будто бы природа весьма немногим людям дала способность к наукам и будто бы большинство, по своему тупоумию, напрасно тратит труд и время», — и дальше пытаетесь убедить неверующих фактами. «Напротив, мы найдем немалое число людей восприимчивых и способных к учению». Но нам отвечают, что этого можно достичь только силой принуждения. Какие у нас аргументы, Учитель? Слабеет здесь наша гуманная педагогика. Авторитарная педагогика обоснована практикой, насчитывающей тысячелетия. В этом по сей день ее и сила, и слабость. Гуманная же педагогика обоснована в мыслях и умах мудрейших людей, вроде Вас, и мизерной практикой, и в этом тоже по сей день ее сила и ее слабость.
Что же делать учителям, которым следует выбирать тот или иной путь?
Им нужно поверить в силу гуманной педагогики, верно?
Им надо поверить в то, что восприимчивость и способность к учению заключается в природе человека.
Лично для меня, высокочтимый Учитель, в тысячу раз убедительнее звучат Ваши слова, которые я приведу ниже, чем тысячелетняя практика авторитарного воспитания. Вы пишете: «Как от природы дано птицам летать, коням бегать, диким зверям быть свирепыми, так нам достались в особенный удел разум и понятливость…» А мысль, которую Вы высказываете дальше, меня потрясает: «…это заставляет думать, что наша душа небесного происхождения».
Если бы Вы знали, высокочтимый Учитель Квинтилиан, с каким трудом мы продвигаемся к душе человека! В авторитарном педагогическом мышлении душа ребенка испарилась, в ней никто не нуждается, ею никто не занимается. Но другое дело память. Память поглотила душу, она поглотила самого ребенка, его личность. Обогатить память знаниями, которые выработало человечество, — вот на что направлены усилия учителей. А Вы, высокочтимый Учитель, на заре новой эры, которая началась с зарождения христианства, заложили основы нового педагогического мышления и заговорили о душе ребенка. «Настоящим очагом красноречия служит душа», — говорите Вы. Вы не смешиваете душу с памятью, хотя знаете, что «памятью дети одарены в самой высокой степени». Душа для Вас — особая сущность в человеке, и поэтому Вы призываете нас проявлять к ней большую заботливость и нежность. «Для нее нужно возбуждение, — рассуждаете Вы, — нужно, чтобы она наполнилась образами и сливалась, так сказать, с теми предметами, о которых говорим. И чем благороднее и возвышеннее душа, тем сильнее должны быть те двигатели, которые служат для ее возбуждения». То, что сказано дальше, высокочтимый Учитель, заслуживает того, чтобы написать это на знамени Гуманной Педагогики как вечную мудрость. Вот что дальше написано: «Похвала возвышает душу, борьба увеличивает ее силы, и она всегда стремится к великому».
Каждая часть здесь имеет глубочайший смысл. Вот, скажем, эта: «борьба увеличивает силы души». Что же скрывается за ней? Вы в нее заложили целое учение о развитии ребенка. Вы дали нам ключ, чтобы мы смогли постичь наступательную сущность педагогики, смелость и благотворность педагогического процесса.
Надо опережать возраст — это есть основа Вашего учения об успехе ребенка. «Некоторые думают, — пишете Вы, — что не следует начинать учить детей раньше семилетнего возраста, так как, по их мнению, до этого времени ни способности, ни физические силы детей не позволяют еще заниматься учением». С такими «некоторыми», вроде Ваших Гезиодов и Эрастофенов, лично мне тоже довелось встречаться и бороться. Это была нелегкая борьба. Эти «некоторые» мне и моим коллегам тоже твердили, что нельзя начинать учение детей раньше семилетнего возраста. Я приводил им, высокочтимый Учитель, Ваши мысли, я говорил им, что Марк Фабий Квинтилиан вслед за философом Хризиппом советует нам не упускать из виду ни одного времени в жизни человека, даже ребенка от одного до трех лет следует наставлять всему хорошему. Вы не обижайтесь, высокочтимый Учитель, но такова уж сила авторитарной практики: она заслоняет мудрость Квинтилиана и всех классиков, если они будут выступать против того, что уже воздвигнуто практикой. Откуда взялось, что только практика есть мера истины? А мудрость, а мысль, а интуиция, а логика?..
Однако, извините, я хотел изложить Ваше учение о развитии, но увлекли меня наши Гезиоды и Эрастофены.
Возвращаюсь к Вашим рассуждениям. «И я знаю, — пишете Вы, — что во все это время, о котором здесь говорится, едва ли дети успевают столько, сколько могут успеть в один год после… Правда, в таком раннем возрасте он немногому научится, однако чему-нибудь все больше научится в тот год, когда ему следовало бы учиться и этому немногому. Таким образом, он год от года будет приобретать познания и достигнет желаемого успеха; и сколько времени выигрывается в детстве, столько сбережется для юношества. То же самое следует сказать и о последующих годах: что нужно знать, тому нехорошо поздно учиться» (подчеркнута мною, высокочтимый Учитель, изумительная мысль, суть содержания образования!).
После таких смелых высказываний Вы, по всей вероятности, ожидали, что Ваши противники не преминут наброситься на Вас и найти «противоречие» в Вашей концепции. «Как это так? — могли они воскликнуть угрожающе (это я по себе знаю, Учитель!). — Надо жалеть ребенка!.. Надо вести его от легкого к трудному, как подтвердила вековая практика!.. Что за педагогика такая, которая усложняет жизнь ребенку!» Такими Гезиодами и Эрастофенами полным-полна наша методическая служба, и до сих пор от них творческому поиску учителей свободного хода нет. Именно они усложняли жизнь
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




