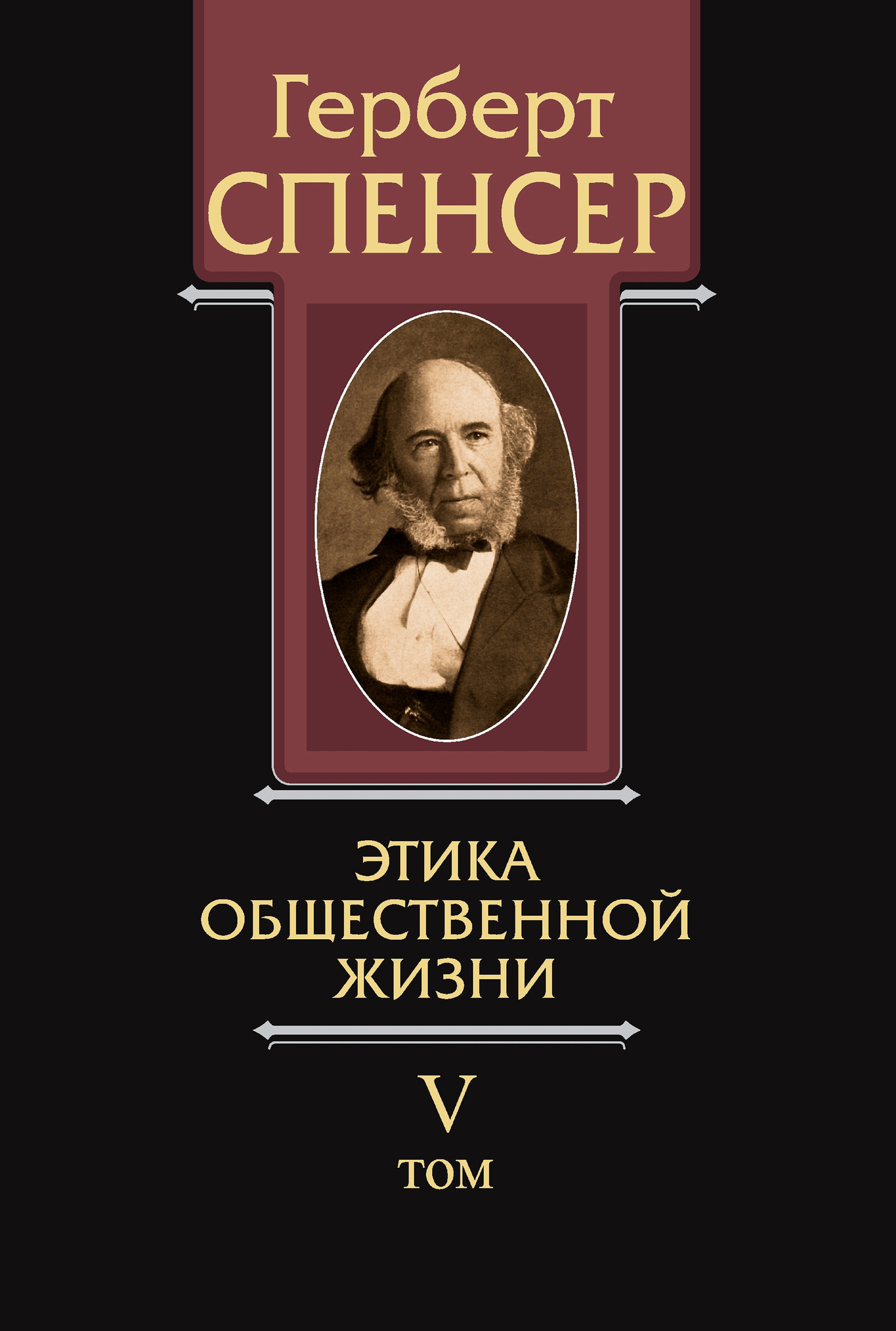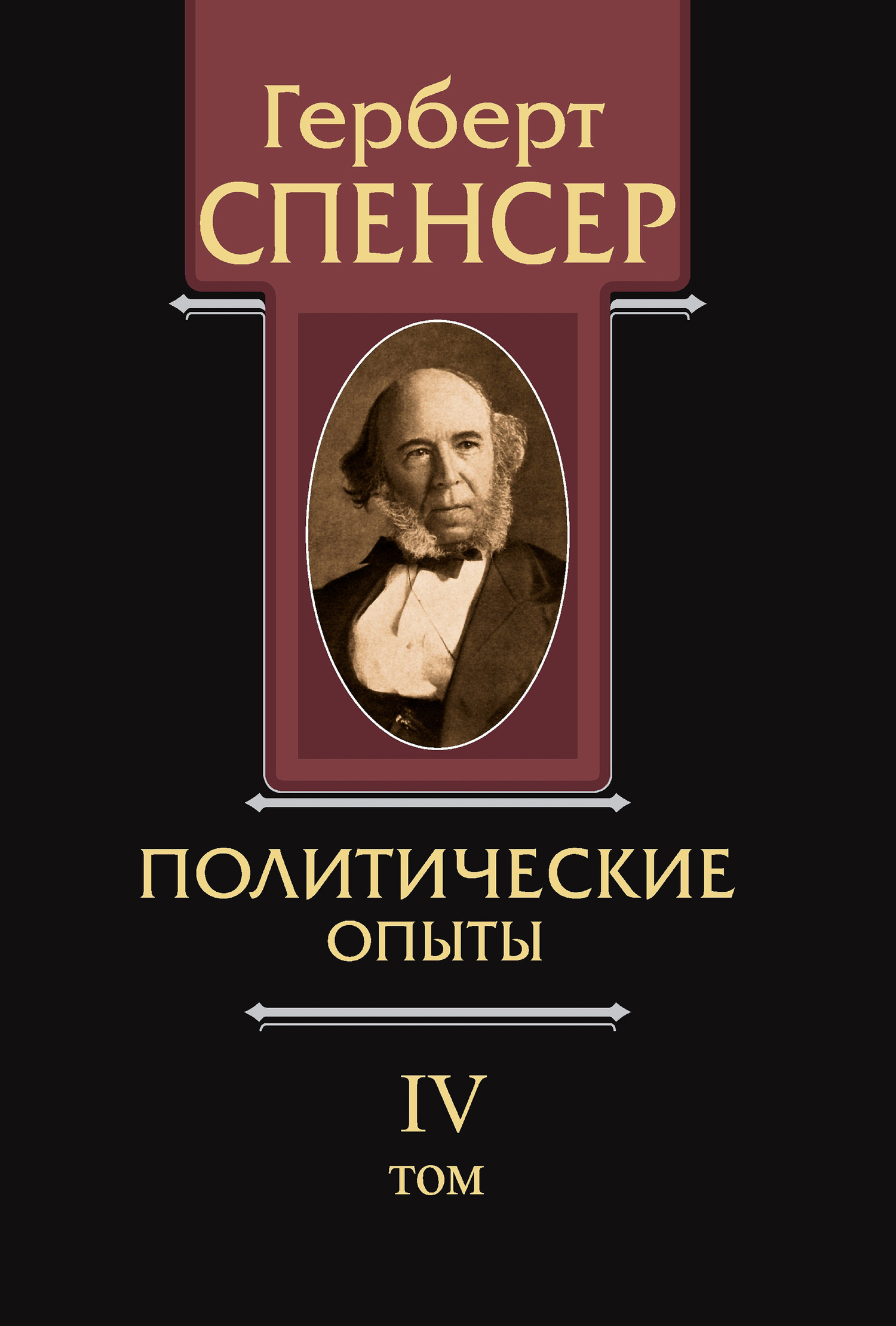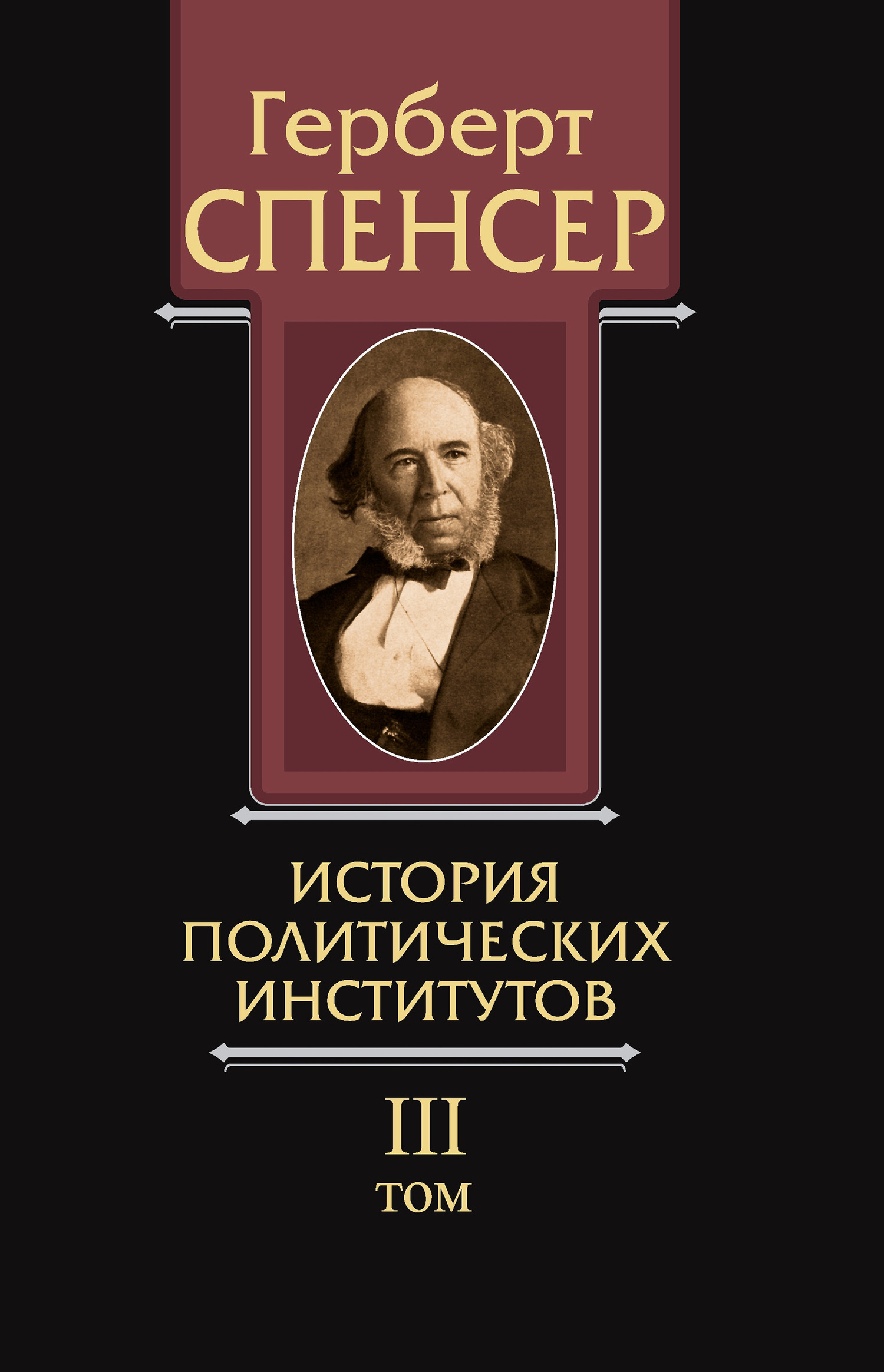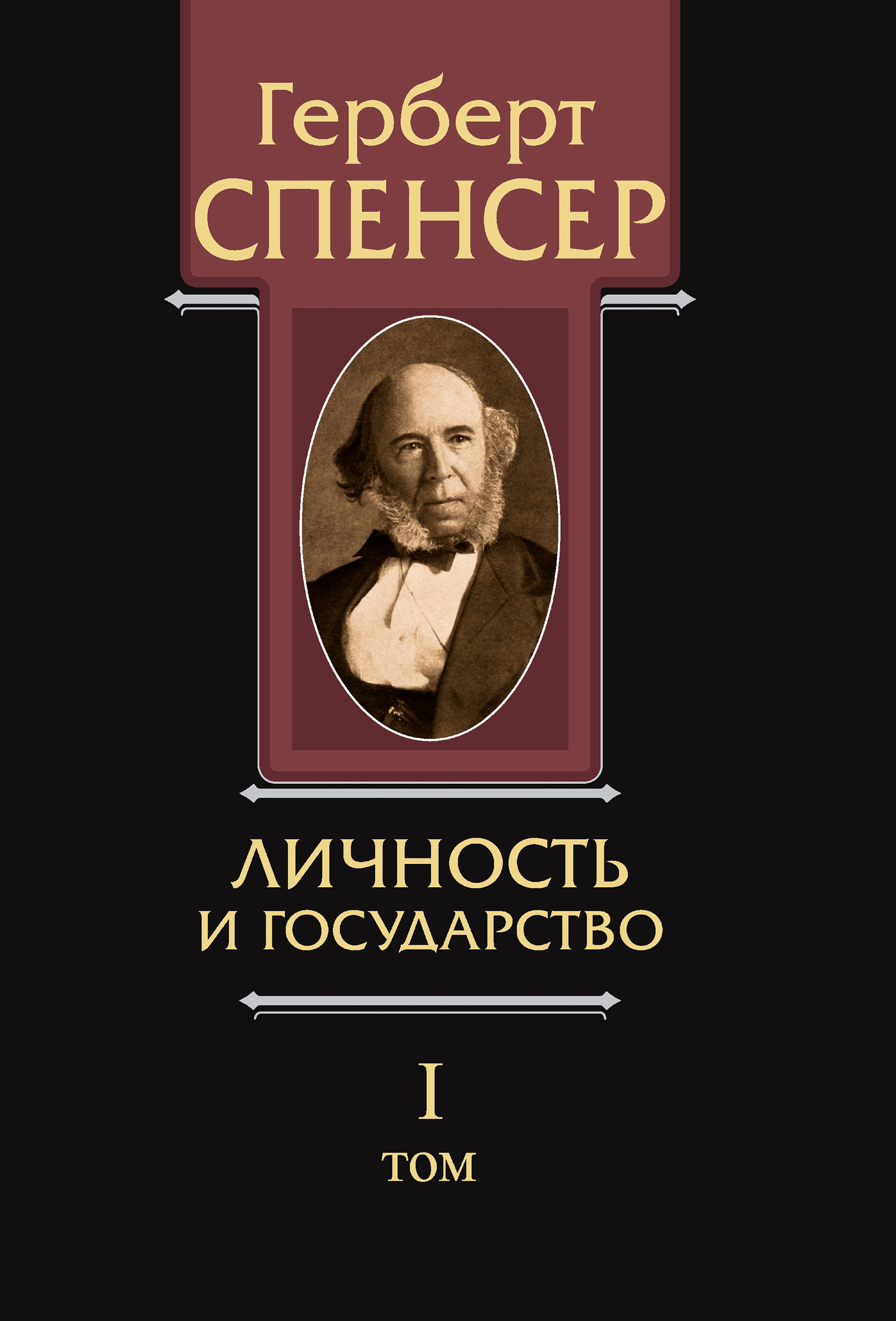Политические сочинения. Том II. Социальная статика - Герберт Спенсер Страница 9
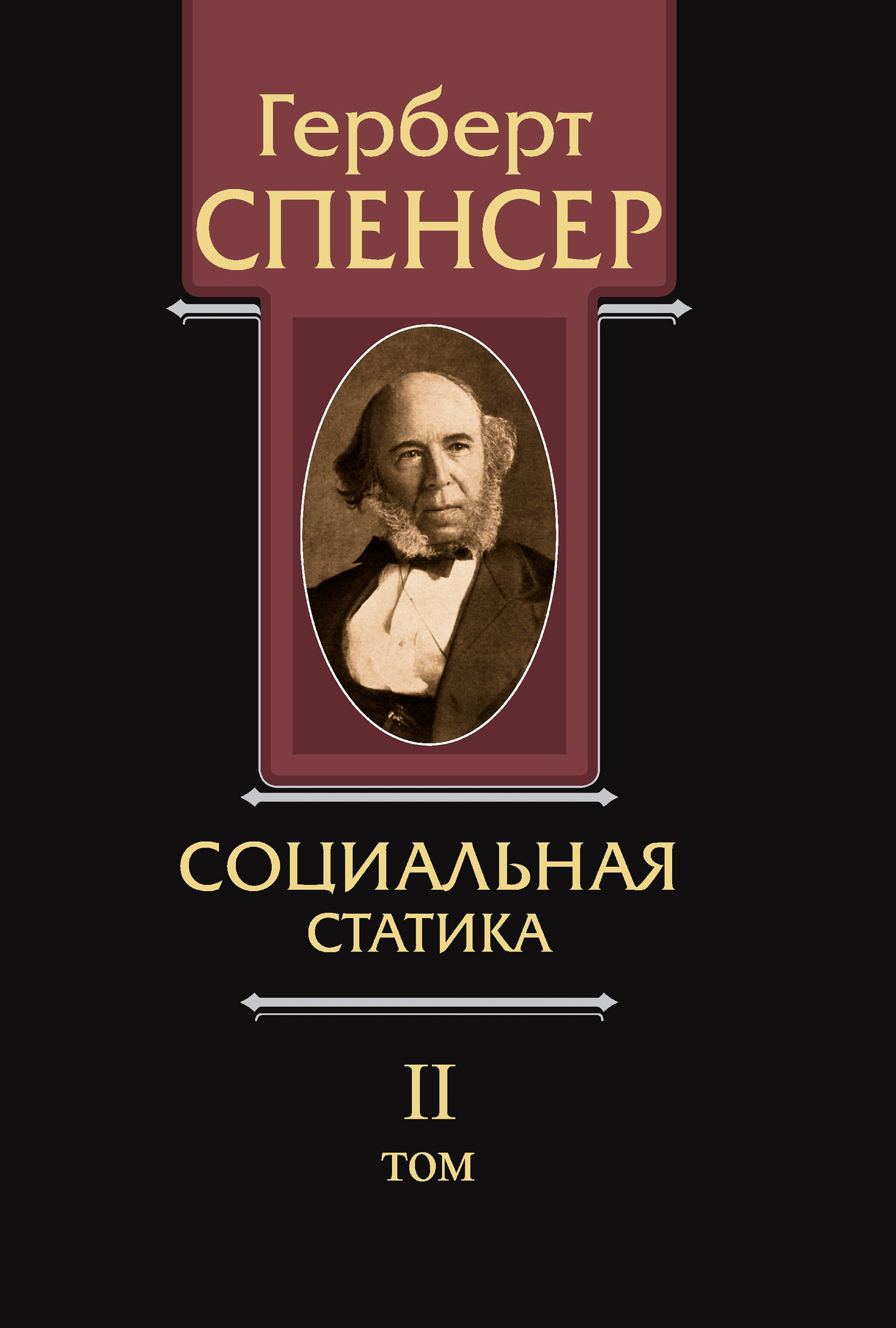
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Политика
- Автор: Герберт Спенсер
- Страниц: 30
- Добавлено: 2025-08-31 22:03:06
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Политические сочинения. Том II. Социальная статика - Герберт Спенсер краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Политические сочинения. Том II. Социальная статика - Герберт Спенсер» бесплатно полную версию:«Социальная статика» – первое политическое сочинение Г. Спенсера. В нем автор описывает «условия равновесия в совершенном обществе» (статическое состояние). Спорадически в книге затрагиваются и вопросы социальной динамики – обсуждаются силы, посредством которых общество приближается к совершенству. Спенсер считал, что развитие человеческого общества происходит на основе неизменных естественных законов, а действия правительства должны быть ограничены проведением в жизнь этих естественных законов. В «Социальной статике» Спенсер впервые сформулировал свой знаменитый принцип равной свободы, согласно которому «свобода каждого должна быть ограничена свободой всех». Автор пытается показать, что «путем строго сообразования с законом равной свободы лучше достигается в обществе не только стройность сотрудничества, но и производительность сотрудничества».
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Политические сочинения. Том II. Социальная статика - Герберт Спенсер читать онлайн бесплатно
«Таким образом, вы решаете между двумя партиями на основании численного большинства, а следовательно, вы предполагаете, что счастье каждого члена одной партии столь же важно, как и счастье каждого члена другой».
«Без сомнения».
«Ваше учение в самой простой форме может быть выражено так: «всякий человек имеет одинаковое право на счастье»; применяя это к личностям, я скажу, что вы имеете столько же права на счастье, сколько и я».
«Я имею такое право – это не подлежит сомнению».
«Позвольте вас, однако же, спросить, кто вам сказал, что вы имеете столько же права на счастье, сколько и я?»
«Кто мне это сказал? Я в этом уверен; я это знаю; я это чувствую; я…»
«Это ничего не значит. Укажите мне ваш авторитет. Скажите мне, кто вам это сообщил, как вы в этом убедились, откуда вы это заключили?»
После нескольких попыток рационального объяснения наш проситель вынужден будет сознаться, что у него нет другого авторитета, кроме его собственного чувства – это просто прирожденное его убеждение; другими словами, это сообщено ему его «нравственным чувством».
Правильно ли такое указание нравственного чувства – это не подлежит здесь рассмотрению. Здесь имелось в виду только обнаружить факт, что после внимательного разбора дела даже и ученикам Бентама, при изыскании основания для их системы, останется одно – обратиться к внушениям того же нравственного чувства, которое было ими так осмеяно.
§ 4. Только человек, предубежденный ложной теорией, может не заметить действия подобной способности. Признаки существования этой способности мы находим начиная от самой глубокой древности и до настоящего времени. Признаки эти, по счастью, умножаются, как скоро мы начинаем приближаться к нашим дням. Статьи Великой хартии[7] выражают протест нравственного чувства против притеснений и его требования по отношению к водворению справедливости. Его инициатива послужила причиной уничтожения рабства. Нравственное чувство придало Виклефу, Гусу, Лютеру и Кноксу мужество в их борьбе против папства; оно побудило гугенотов, пресвитериан, моравов отстаивать свободу суждения в делах веры[8]. Оно внушило Мильтону его «опыт о свободе печати»[9]. Оно направило отцов-пилигримов в Новый Свет. Оно поддерживало последователей Георга Фокса, угрожаемых пенями и тюрьмой. Оно внушало дух сопротивления пресвитерианскому духовенству 1662 г. Оно же в более позднее время породило те чувства, которые подточили и уничтожили политические ограничения по отношению к католикам. Через посредство ораторов, проповедовавших против рабства, оно сломило сопротивление эгоизма, смягчило сердца добрых и способствовало очищению нашей нации. Лучи его теплоты взрастили в нас симпатии к полякам и возбудили в нашей душе негодование против их притеснителей. Долго скапливался в нас возбужденный им жар, шумным взрывом разразился он над старинной несправедливостью и породил кипучую агитацию реформы. Из поднявшегося тогда пламени вылетели искры, которые уничтожили теории протекционистов, и возгорелся свет, который открыл нам истину свободной торговли. Внутренняя сила этого чувства возбудила социальный электрический ток, который разделяет людей на партии, который порождает в народе его положительный и отрицательный полюсы – радикальные и консервативные элементы. Теперь то же чувство порождает ассоциации против государственной церкви и обнаруживает свое действие в разнородных обществах, направленных к увеличению власти народа. Оно строит памятники мученикам политической деятельности, оно агитирует за допущение евреев в парламент, оно распространяет книги о правах женщин, подает петиции против сословного законодательства, угрожает восстать против конскрипции ополчения[10], отказывается платить приходские (церковные) сборы, отменяет притеснительные законы о должниках, оплакивает печальные судьбы Италии и вызывает симпатии к венграм[11]. Из него, как из корня, возрастают наши стремления к социальной правдивости. Оно порождает изречения вроде следующих: «поступай с другими так, как бы ты желал, чтобы поступали с тобой», «честность – лучшая политика», «сначала справедливость, а потом великодушие». Вот его цвет, а плоды его – справедливость, свобода и безопасность.
§ 5. Меня спросят: каким образом чувство может иметь понятие? Каким образом инстинктивное стремление может породить нравственное чувство, способность нравственного смысла? Не заключается ли тут смешения между интеллектуальной деятельностью и ощущением? Дело чувства – получать впечатления, а не определять образ действий; в то же время дело инстинкта – порождать известный образ действий, но не получать впечатления. Между тем в предыдущем изложении способность побуждения и сила представления сосредоточиваются в одном и том же деятеле.
Это замечание может иметь вид весьма серьезного возражения, и если бы нужно было термины «чувство» или «мысль» понимать в точном их значении, оно могло бы привести к решительному опровержению. Но в настоящем случае термин «чувство» выражает то же, что он означает и во многих других, а именно то чувство, с которым инстинкт смотрит на предметы и действия, входящие в его сферу, или, лучше сказать, то суждение об этих действиях и предметах, к которому он побуждает интеллектуальную силу посредством известного рода рефлективного влияния. Объяснить это нужно примером: мы выберем страсть к экономии – она даст нам возможность удовлетворительно разъяснить дело.
Мы найдем, что вместе со стремлением к приобретению собственности она составит то, что мы назовем чувством или смыслом цены собственности. Мы найдем, что сила этого чувства изменяется сообразно силе побуждения. Противопоставим скрягу и расточителя. Преследуемый своим постоянным желанием копить, скряга имеет совершенно ненормальный взгляд на цену денег. Самая крайняя экономия кажется ему добродетелью; самые обыкновенные издержки могут представиться ему предосудительными, а щедрость внушает ему полнейшее отвращение. Все, что способствует увеличению его запаса, кажется ему хорошим; все, что его уменьшает, кажется ему дурным. Если минутная вспышка благородного чувства по какому-нибудь случаю заставит его развязать свой кошелек, то он может быть вполне уверен, что впоследствии будет порицать себя за это как за дурной поступок. С другой стороны, и расточитель не может правильно определять настоящую цену собственности, потому что ему недостает инстинкта приобретения; это не идет к нему, он не имеет для этого надлежащей наклонности. Под влиянием совершенно других чувств он смотрит с презрением на привычки экономии: он в расточительности видит благородное свойство. Теперь ясно, что этот противоположный взгляд на достоинства и недостатки известного поведения проистекает не из рассудка, а из чувства, из способностей ощущения. Если бы рассудок действовал у них не под влиянием желаний и инстинктивных стремлений, то он показал бы им, что в образе действий скряги так же мало мудрости, как и в образе действий расточителя. Действуя же под влиянием инстинктивных желаний, рассудок каждому из них представляет другого дураком, в то время как страсть не дает ему возможности заметить собственное дурачество.
Этот самый
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.