О воле в природе - Артур Шопенгауэр Страница 10
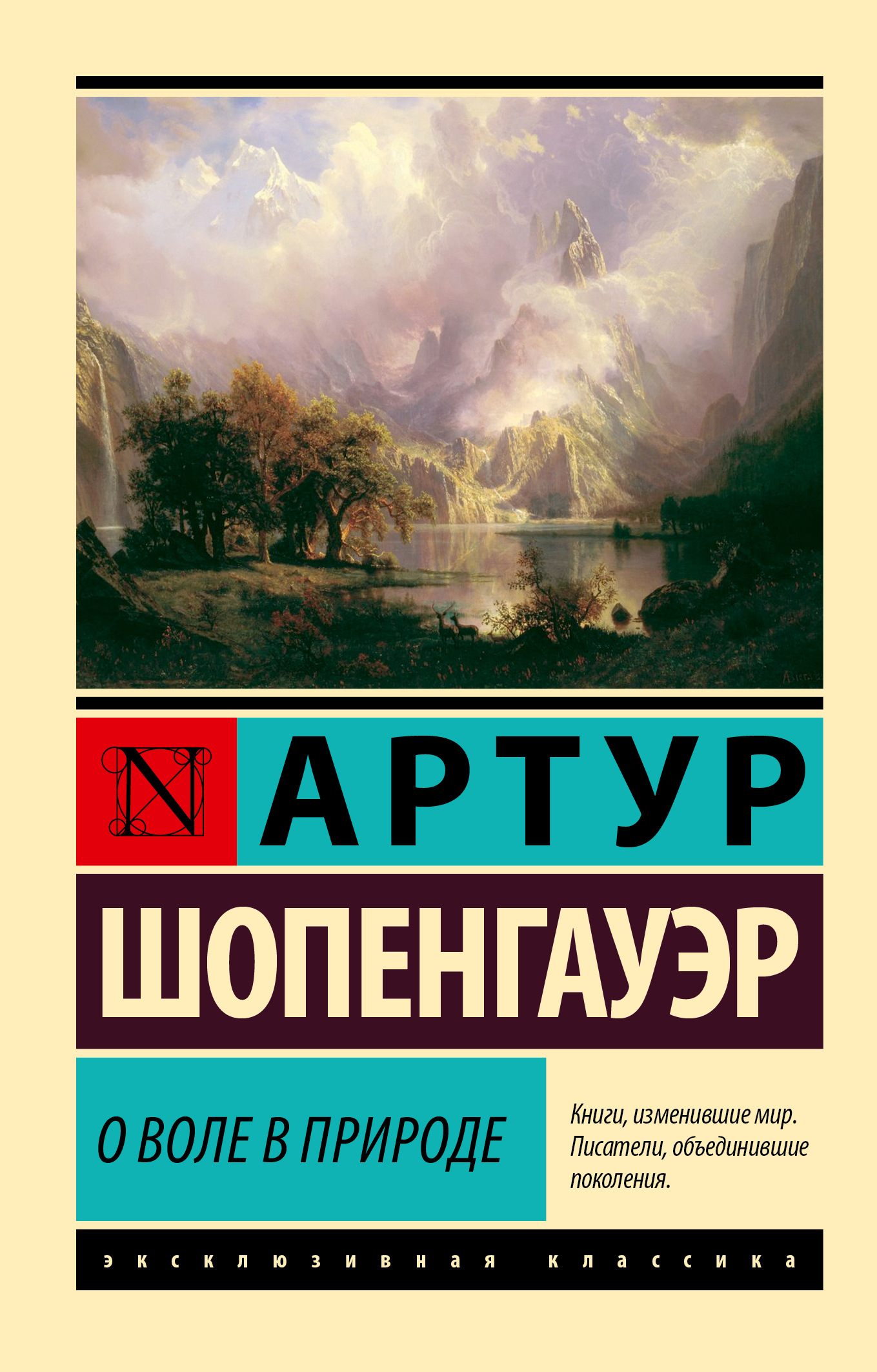
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Науки: разное
- Автор: Артур Шопенгауэр
- Страниц: 11
- Добавлено: 2025-09-23 00:05:11
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
О воле в природе - Артур Шопенгауэр краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «О воле в природе - Артур Шопенгауэр» бесплатно полную версию:Артур Шопенгауэр (1788—1860) – выдающийся немецкий философ-иррационалист.
Работа философа «О воле в природе», написанная им в зрелые годы, является дополнением его основного труда «Мир как воля и представление».
В ней Шопенгауэр подтверждает свою идею о том, что в основе существования природы лежит бессознательная мировая воля, которая проявляет себя во всем и всему остается чуждой.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
О воле в природе - Артур Шопенгауэр читать онлайн бесплатно
На стр. 58: «Следует, однако, всегда иметь в виду, что холод в данном случае действует как сильно возбуждающее средство для того, чтобы подавить или умерить больную волю и пробудить вместо нее какую-нибудь естественную волю всеобщего зарождения теплоты».
Выражения такого рода можно найти почти на каждой странице книги г. Брандиса. Во втором из его названных сочинений он уже не до такой степени сплошь вплетает в свои отдельные толкования теорию воли – вероятно, исходя из тех соображений, что она, эта теория, в сущности метафизична; однако он вполне ее удерживает и даже, в тех случаях, где на нее ссылается, высказывает ее тем определеннее и яснее. Так, в § 68 и след. он говорит о «бессознательной воле, которая неотделима от воли сознательной» и которая служит primum mobile всякой жизни, как растения, так и животного, поскольку у них определяющим началом всех жизненных процессов, выделений и т. п. являются обнаруживающиеся во всех органах влечение и отвращение. § 71: «Все судороги доказывают, что проявление воли может совершаться и помимо отчетливой способности представления». § 72: «Повсюду мы наталкиваемся на изначальную таинственную деятельность, которая, подчиняясь то возвышенной и гуманной свободной воле, то животному влечению и отвращению, то простым, скорее растительным, потребностям, пробуждает в единстве индивидуума различные виды деятельности, для того чтобы проявить себя». На стр. 96: «Какое-то творчество, какая-то изначальная таинственная деятельность сказывается в каждом проявлении жизни»… «Третьим фактором этого индивидуального творчества является воля, самая жизнь индивидуума»… Нервы служат проводниками такого индивидуального творчества: чрез их посредство изменяется форма и состав соков – сообразно с тем, что́ испытывается: влечение или отвращение. На стр. 97: «Ассимиляция поступающей извне материи… образует кровь… это не есть ни всасывание, ни просачивание органической материи… нет, повсюду единственным фактором явления оказывается творческая воля, жизнь, несводимая ни к какому роду известного нам движения».
Когда я писал это в 1835 году, я был достаточно простодушен для того, чтобы серьезно верить незнакомству г. Брандиса с моим сочинением: иначе я не стал бы упоминать здесь его писаний, потому что в таком случае они представляли бы собою не подтверждение, а только повторение, частное применение или развитие моего учения в данном пункте. Но я думал, что смело могу положиться на его незнакомство со мною: он нигде обо мне не упоминает – а если бы он меня знал, то литературная честность обязывала бы его не умалчивать о человеке, у которого он заимствовал свою главную и основную мысль, тем более что он видел тогда, как этот человек, вследствие огульного замалчивания его книги, терпел незаслуженное пренебрежение, которое легко могло быть истолковано как благоприятное для плагиата. К тому же ссылка на меня была бы в собственных литературных интересах г. Брандиса и делала бы честь его уму: ведь его основное положение до такой степени поражает своей парадоксальностью, что уже геттингенский рецензент г. Брандиса немало на него диву давался и недоумевал, как с ним быть; между тем г. Брандис, собственно, не подкрепил такого тезиса доказательствами или индукцией и не установил его отношения к совокупности наших знаний о природе, а просто-напросто догматически выставил его. Вот почему я и вообразил себе, что он дошел до своего научного положения тем своеобразным даром догадки, который позволяет замечательным врачам распознавать и схватывать истинное положение дела у постели больного, – пусть и не мог он дать строгого и методического отчета об основаниях этой, в своем существе метафизической истины; впрочем, должен же он был видеть, до какой степени шла она вразрез с установившимися воззрениями. Если бы, думал я, он был знаком с моей философией, которая устанавливает ту же самую истину в несравненно более широком объеме и распространяет ее значение на всю природу, обосновывает ее доказательствами и индукцией, в связи с кантовским учением, последовательным и конечным выводом которого она только и является, то как приятно и кстати было бы для него сослаться на эту мою философию и на нее опереться, для того чтобы не стоять одиноко со своим неслыханным утверждением, которое у него только утверждением и остается. Вот причины, в силу которых я считал в то время возможным безусловно допустить, что г. Брандис действительно не был знаком с моим произведением.
Но с тех пор я лучше узнал немецких ученых и копенгагенских академиков, к числу которых принадлежал господин Брандис, и пришел к убеждению, что он был очень хорошо знаком со мною. На чем основывается у меня это убеждение, я высказал уже в 1844 году во втором томе «Мира как воли и представления», гл. 20, стр. 263 (3-е изд., 295); и так как во всем этом приятности мало, то я и не буду здесь повторять своих доводов, а прибавлю только, что с тех пор я из весьма достоверного источника получил подтверждение того обстоятельства, что г. Брандис был несомненно знаком с главным моим сочинением и даже имел его лично, так как оно оказалось в оставшемся после него наследстве. Незаслуженное пребывание в тени, которое в течение долгого времени выпадает на долю такого писателя, как я, дает подобным людям смелость присваивать себе даже его основные мысли, не называя его имени.
Еще далее, чем г. Брандис, зашел в этом направлении другой медик, который не удовольствовался заимствованием одних только мыслей, а уж заодно воспользовался и словами. Именно, господин Антон Розас, ординарный профессор Венского университета, в первом томе своего «Руководства к офтальмологии», который появился в 1830 г., весь свой § 507 дословно списал из моего сочинения «О зрении и цветах», которое появилось в 1816 году, – именно со страниц 14–16, не упомянув при этом ни слова обо мне и даже ничем не отметив, что здесь говорит не он, а другое лицо. Уже одним этим достаточно объясняется, почему он в своих перечнях 21 сочинения о цветах и 40 сочинений по физиологии глаза, приводимых в § 542 и § 567, остерегся назвать мое сочинение; и это было с его стороны тем благоразумнее, что и сверх указанных выше страниц он присвоил себе из него еще много другого – без упоминания моего имени. Напр., в § 526 все, что он приписывает разным «говорят», относится
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




