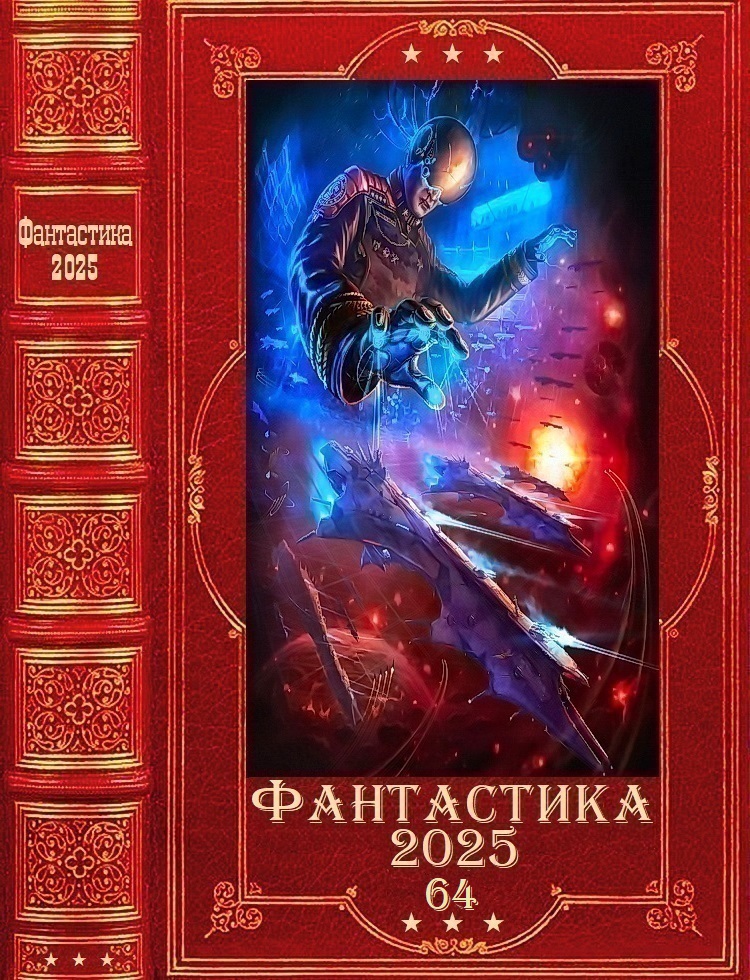Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко Страница 12
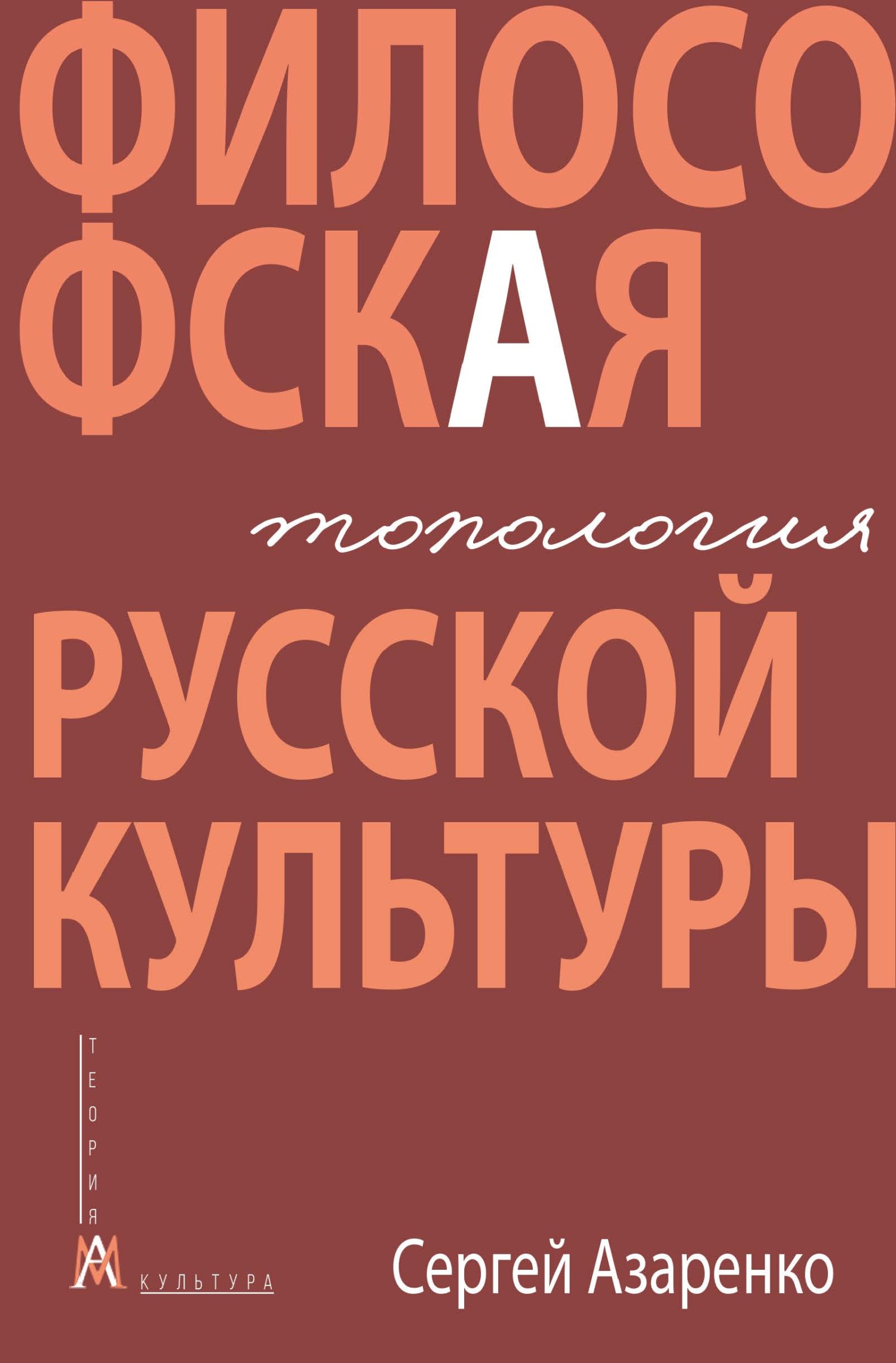
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология
- Автор: Сергей Александрович Азаренко
- Страниц: 12
- Добавлено: 2025-09-04 06:06:07
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко» бесплатно полную версию:В книге обосновывается топология культурного воспроизводства на материале русской культуры. Рассматривается не просто «место» культуры, а «сов-местность» человеческого способа существования, порождающего определенный тип телесности и соответствующий ему способ коммуницирования. Раскрывается единая логика конституирования пространственных и телесных компонентов культурного воспроизводства. Основной пространственный параметр России – ширь и даль, что нашло свое выражение в широте русского характера, в «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке», в одноголосом знаменном русском церковном пении, звучавшем в православных церквах. Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных специальностей, а также всем тем, кто интересуется проблемами культуры и современной философии.
Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко читать онлайн бесплатно
В децентрированной ситуации бытие оказывается на периферии, и откладываемым, реальным критерием разметки и различения становится совместность как таковая. Таким образом, совместность не субстанция, она не есть, но имеет место, место взаимообращения тел в их взаимодействии. Незавершенность и фрагментарность существования такова лишь по видимости, поскольку не может быть Собственного без Другого, как и наоборот. Одно опространстливает другое, создавая непрерывность или протяженность совместности. «Со-в-местность» и «в-месте» – это не просто совмещение и собирание в одно, это одновременное действие собирания и различения, это на-хождение одного с другим в условиях той или иной местности, это способ организации этой местности, который мы хотели бы назвать «топологемой».
«Топологема» – это понятие, которое призвано отразить такой способ собирания (в)местности, который у каждой культуры своеобразный. «Топологема» отлична от «месторазвития» Савицкого (см. пред. параграф.– С. А.), поскольку последнее понятие предполагает примат самотождественного «места», хотя и «места» развивающегося, но всякое развитие всегда предполагает развивание чего-то уже заложенного. Поэтому мы предпочитаем говорить не о развитии, а о с-мещении в том смысле, какое ему придает Ю. Тынянов, говоря об эволюции жанра в литературе и порождении в нем нового. В истории жанра имеет место «не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение»[36]. Жанр представляет собой подвижную структуру, в нем новое явление сменяет старое, занимает его место и, не являясь «развитием» старого, является в то же время его заместителем. Текучими здесь оказываются не только границы, «периферия», но и сам «центр», причем не таким образом, что в центре происходит движение одной преемственной линии, а по бокам наплывают новые явления; но эти самые новые явления занимают самый центр, а центр съезжает в периферию. Гарантом эволюции литературы является «равносоставленность» литературного факта.
Подобное мы обнаруживаем и в динамике «топологемы». «Место» в топологеме содержит одновременно и «не-место», в том плане что оно выступает в качестве в-местилища для других «мест». Она схожа с «хорой» (греч. место, площадь, участок, область, край) в интерпретации Деррида, которая всегда занята, ибо в ней что-то помещено, а следовательно, она отличается от того, что в ней занимает место, которое занято чем-то: страной, местом проживания, обозначенным рангом, постом, позицией, территорией или регионом[37]. Такое место или в-местилище относится к третьему роду и оно приходит в нейтральное пространство места без места – места, где всё отмечает себя, но которое «в-самом-себе» не отмечено. Для нас же топологема (топос – место, логос от греч. лего – собирание) есть конкретное место, а точнее сказать, место-нахождение, поскольку в нем находятся, собираются (то есть подвижно сосуществуют, самоорганизовываясь) различные места, они определенным образом со-в-мещаются, порождая неповторимую констелляцию «мест» культуры.
В русской топологеме преобладает тенденция к слиянию, солидарности, соборности. Наиболее отчетливо это выражено у Вл. Соловьёва, который пишет, что истинное соединение предполагает истинную раздельность соединяемых, то есть такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга, находя каждый в другом полноту собственной жизни. Как в любви индивидуальной два различные, но равноправные и равноценные существа служат один другому не отрицательной границей, а положительным восполнением, точно то же должно быть и во всех сферах жизни собирательной, всякий социальный организм должен быть для каждого своего члена не внешней границей его деятельности, а положительной опорой и восполнением: как для половой любви единичное «другое» есть вместе с тем все, так со своей стороны социальное в силу положительной солидарности всех своих элементов должно для каждого из них являться как действительное единство, как бы другое, восполняющее его живое существо. Если отношения индивидуальных членов общества друг к другу должны быть братскими, то связь их с целыми общественными сферами – местными, национальными и, наконец, со вселенскою – должна быть еще более внутренней, всесторонней и значительной. Эта связь активного человеческого начала с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединою идеей должна быть, по Соловьёву, живым сизигическим (греч. сизигия – сочетание) отношением[38].
Определенные образцы «со-в-местного» бытия людей закрепляются в культуре как «коллективной памяти» в качестве культурного, символического, экономического и социального капиталов, продолжая в той или иной форме воспроизводиться из поколения в поколение. Заметим также, что в мире постоянно воспроизводится неприродная данность тела и телесность духовной культуры. Тело не существует в качестве чистой природной данности, оно всегда оказывается каким-либо способом организовано, сложено. Каким-то образом сложена наша фигура и сложено в складки лицо. П. Флоренский писал: «Геометрическая конструкция лица и вообще человека, его пространственная форма выражает вовне сложное соотношение всех внутренних сил и деятельностей организма. Геометрическая поверхность тела есть окончательная равнодействующая и итог всего, что делается внутри человека и аналитически, и физиологически, и психически, и даже духовно»[39].
Тело обнаженное или тело одетое, оно всё равно представлено в складках кожи или в своих разворотах, а также в складках одежды, и шире – в складках пережитого, в складках истории и культуры. Между тем в методологии изучения человека долгое время господствовала практика историзма или, точнее, квазиисторизма, отрывавшая историю и культуру от природы. В то время как «духовная» культура не может быть рассмотрена вне телесного, ибо духовность представляет собой «дыхание» взаимодействующих различных тел мира и человека. Тела продублированы в «дыхании» речи человека, картинах и скульптурах, музыке и архитектуре. Тело, история и культура неразрывны. Культура есть продолжение органов человеческого тела, по Флоренскому. Складывание тела во что-то особенное (складки тела) – это не что иное, как удвоение тела. Тело постоянно производит двойников. Существование тела –
Конец ознакомительного фрагмента
Купить полную версию книгиЖалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.