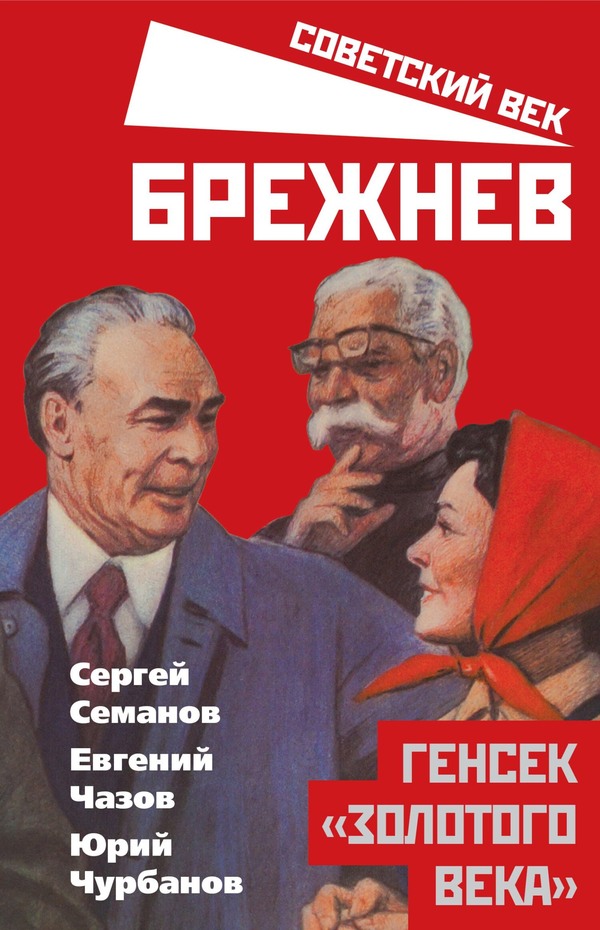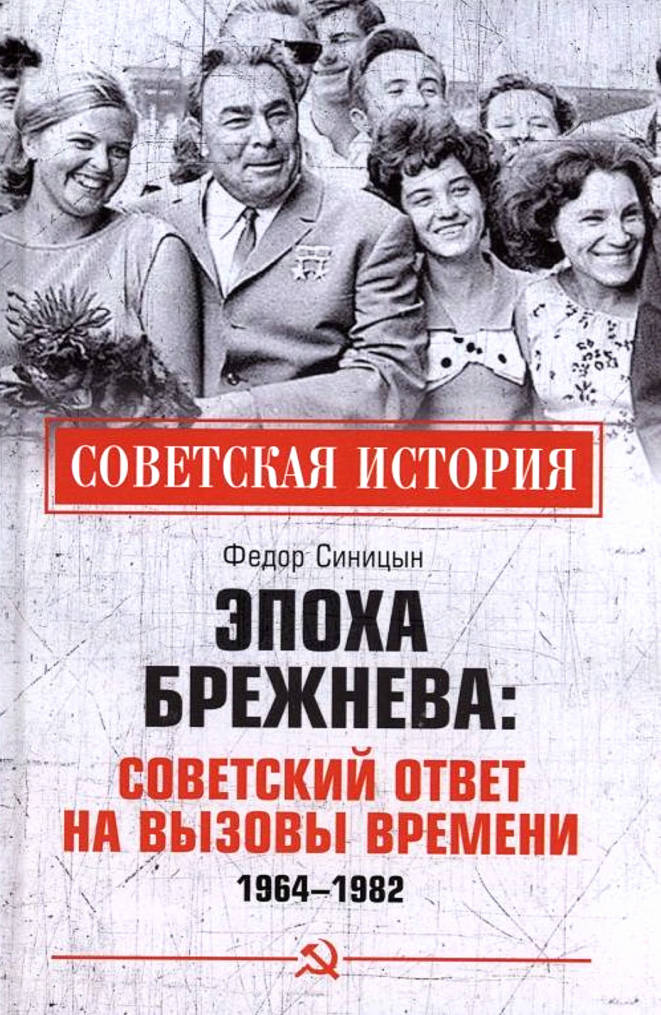Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович Страница 67
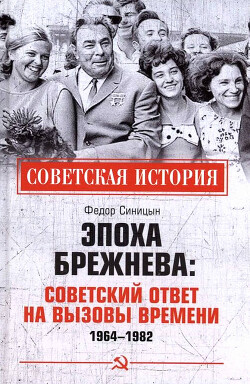
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Синицын Федор Леонидович
- Страниц: 99
- Добавлено: 2025-08-30 02:01:19
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович» бесплатно полную версию:Как только не называют брежневские времена — «развитой социализм», «застой», «эпоха стабильности»… В таких оценках звучат и критика, и сарказм, и восхищение.
В то же время этот период не вполне еще стал «историей». Значительная часть населения России и других стран постсоветского пространства — непосредственные участники событий, свидетели тех лет. Цель настоящей книги — выяснить, как руководство СССР в период правления Л.И. Брежнева (1964–1982) пыталось сохранить советскую систему, дав ответы на вызовы, вставшие перед страной. Это была действительно последняя, относительно стабильная эпоха, предшествовавшая финалу «советского эксперимента». Эта стабильность потенциально давала «шанс на спасение». И именно в этот период стали яркими, выпуклыми многочисленные «внутренние» и «внешние» угрозы, ударявшие по устойчивости советской системы…
Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович читать онлайн бесплатно
Непьющая часть народа с тревогой констатировала рост пьянства и алкоголизма. В 1966 г. на собраниях по поводу сообщения о переходе на пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день люди (видимо, в основном женщины) высказывались, что им «не нужен второй выходной день», потому что «у многих мужчин будет лишний повод к пьянству, вместо одного дня в неделю будут пить 2 дня. Гораздо лучше сохранить 7-часовой рабочий день при одном выходном в неделю». В 1969 г. в списке замечаний, которые были поданы коммунистами Бауманского района г. Москвы по отчету райкома КПСС, врач М.А. Мерман (очевидно, не понаслышке знавший о проблеме алкоголизма) дал в адрес Моссовета такие предложения: «Запретить продажу водки в продовольственных магазинах. Продавать только в специализированных магазинах с 11 до 20 часов»; «Продавать водку в мелкой расфасовке»; «Не засчитывать в товарооборот магазинов выручку за продажу водки»[1199]. Эти предложения могли бы стать краеугольным камнем «сухого закона», однако он был введен в СССР только в 1985 г.
Во-вторых, в стране было недостаточно «идейных» диссидентов. Г.Х. Шахназаров писал, что «при немалом числе недовольных, критически настроенных или просто сомневающихся людей все-таки не стала еще общей мысль «так дальше жить нельзя»[1200]. Людей, реально готовых идти «против системы» до конца, было еще меньше (социологи выяснили, что для инициирования перемен в обществе должно быть минимум 10 % «принципиальных», «идейных» людей[1201]). Это тоже было проявлением социальной апатии.
В-третьих, даже у немногочисленных «идейных» отсутствовало понимание того, что нужно делать для осуществления перемен. Г.А. Арбатов отмечал, что в СССР «множество людей было воспитано, запрограммировано всем прошлым на совершенно определенные формы поведения»[1202]. Последствием отсутствия реальной демократии и до революции, и после нее была нехватка опыта, умений, навыков участия граждан страны в практике управления. Нередким было тотальное отсутствие у советских людей понимания того, что и как можно было бы сделать для решения той или иной проблемы, а многие проблемы даже не были осознаны. По ряду важных вопросов в стране либо полностью отсутствовало какого-либо общественное мнение, либо оно было крайне незрелым (способствовала этому в том числе квазиинформированность, возникшая в массовом сознании из-за многолетнего воздействия сфальсифицированных сведений, полученных из советской пропаганды)[1203].
В-четвертых, осуществлению перемен «снизу» мешала атомизация советского общества. В. Заславский сделал вывод, что она была одной из причин отсутствия в СССР организованных акций рабочих[1204]. Отметим, что такие акции были, но они охватывали отдельные предприятия и не превратились во что-либо подобное движению «Солидарность» в Польше. Из-за атомизации не возникла тесная связь между интеллигенцией и студенчеством, с одной стороны, и рабочим классом — с другой, тогда как для эффективности любого общественного движения эта связь была необходима[1205]. Кроме того, мешала объединению меньшая распространенность среди рабочего класса «диссидентских настроений», чем это было у интеллигенции.
В итоге новые критические тенденции в массовом сознании не вылились в массовые практические акции. Критика властей обществом нарастала, но она не достигла высокого уровня политизированности, в основном касаясь деятельности социальных институтов исключительно местного масштаба. Критика в основном носила «точечный» характер, т. е. люди ограничивались информированием разного рода адресатов об отрицательных фактах действительности без попытки сделать из них какие-то выводы[1206]. Так проявлялись характерные для советского массового сознания патернализм, низкая способность к глубинному анализу обстановки, а также к самостоятельному решению общественных проблем и защите своих интересов[1207].
Как показывает анализ архивных документов, большинство вопросов, которые люди задавали партийным и другим чиновникам на разного рода собраниях, касалось внешней политики СССР и ситуации в мире, а не реальных внутренних проблем страны (здесь проявлялись и опасения высказать неугодное властям мнение). Критические замечания в отношении советской внешней политики у основной массы людей оставались в рамках лояльности системе[1208] и были обусловлены желанием защитить интересы страны и ее граждан.
Таким образом, «фронда» среди советского населения оставалась в основном «кухонной». В 1969–1977 гг. в СССР не было зафиксировано ни одного случая массовых беспорядков. В 1977 и 1981 гг. проявились первые ласточки изменения ситуации — хулиганские волнения в Новомосковске и беспорядки в Орджоникидзе[1209], однако это были исключительные, из ряда вон выходящие случаи.
Б.А. Грушин считал, что у части советской молодежи появились не только большие «острова» самостоятельного сознания, но также воля и готовность к серьезным переменам[1210]. Однако это не было реализовано на практике. Так, во второй половине 1960-х гг., по словам самих представителей молодежи, всплеск среди нее критических настроений по поводу процесса над А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем «был только видимостью борьбы… Ни о какой организации или решительном протесте речи идти не может». Даже «идеологически осознающая себя часть» студенчества не знала, что делать, и среди нее «укрепилось настроение безвременья». Некоторые студенты хотели бы посвятить себя общественной деятельности, «однако в рамках официальных они не хотят действовать, а других путей (протестных. — Ф. С.) они не видят». В феврале 1971 г. П.Н. Решетов, выступая на совместном заседании АОН при ЦК КПСС и Института общественных наук (ИОН) при ЦК СЕПГ, заявил, что «бунт, мятеж… больше характеризуют поведение молодежи капиталистических»[1211], а не соцстран. Действительно, так и было в СССР, где, в отличие от стран Запада, в брежневский период не происходило никаких массовых молодежных, студенческих выступлений.
То же касалось и диссидентской деятельности, которая не приобрела «революционный» характер — ни в плане массовости, ни идеологически. Особенно хорошо это было видно с Запада. Как в 1972 г. писал американский политолог М. Харрингтон, диссидентские движения «в Восточной Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии и среди интеллигенции в Советском Союзе сами по себе никогда не призывали к возврату к капитализму»[1212]. В том же году в газете «Нью-Йорк тайме» помощник редактора этой газеты Г. Солсбери писал, что предложения А.Д. Сахарова «делаются в рамках, а не вне рамок существующего советского государства… и преследуют цель усовершенствовать систему, избавить ее от аномалий и искажений, сделать так, чтобы она работала лучше, укрепить и вооружить систему и государство, с тем, чтобы они могли отвечать на вызовы, которые им бросают современный мир и развивающаяся технология»[1213]. (То есть Сахаров фактически действовал, исходя из лучших интересов СССР.) В опубликованной советологами книге «Советский Союз в 70-е и последующие годы» говорилось, что «смелость в проявлении оппозиции к советской тирании изнутри еще не превращает советского диссидента в западного либерала… Спектр диссидентства в СССР… включает в себя людей самых различных взглядов, начиная с тех, кого считают истинными ленинцами, и кончая теократами»[1214]. Таким образом, была очевидна еще и идеологическая разобщенность критиков системы. Это ярко проявилось в годы перестройки, когда у легализованных в стране политических сил проявился очень широкий спектр — от либеральных до «черносотенных».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.