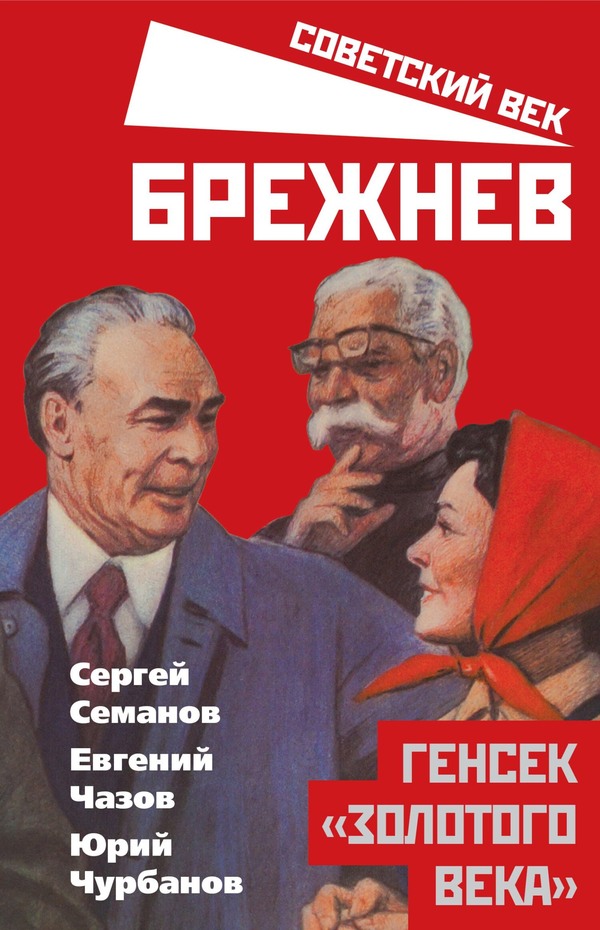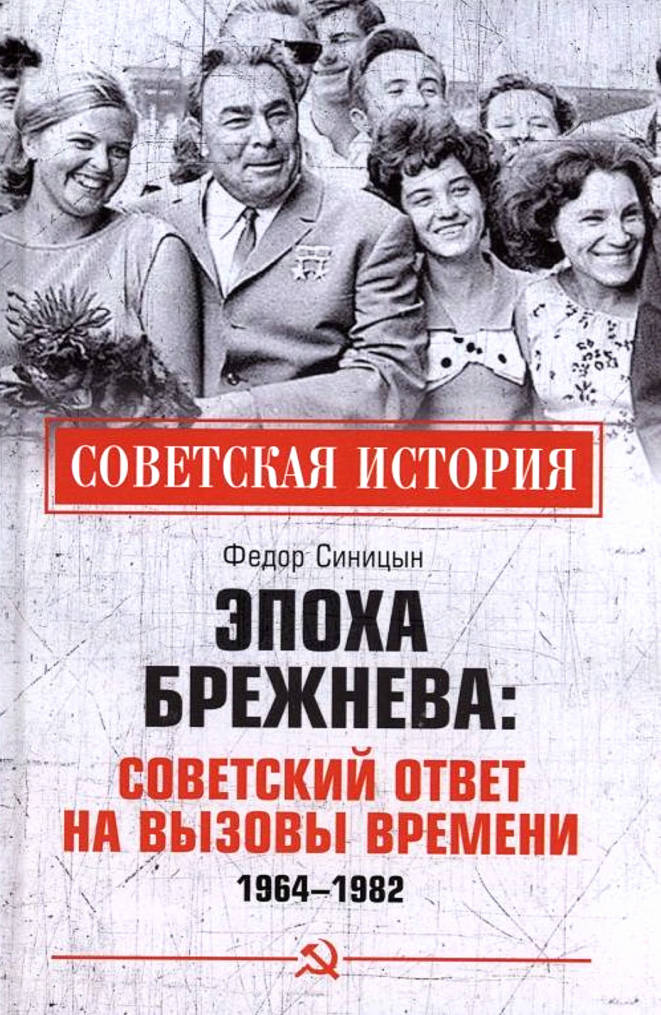Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович Страница 59
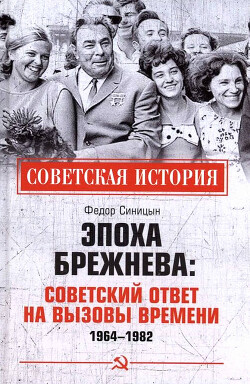
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Синицын Федор Леонидович
- Страниц: 99
- Добавлено: 2025-08-30 02:01:19
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович» бесплатно полную версию:Как только не называют брежневские времена — «развитой социализм», «застой», «эпоха стабильности»… В таких оценках звучат и критика, и сарказм, и восхищение.
В то же время этот период не вполне еще стал «историей». Значительная часть населения России и других стран постсоветского пространства — непосредственные участники событий, свидетели тех лет. Цель настоящей книги — выяснить, как руководство СССР в период правления Л.И. Брежнева (1964–1982) пыталось сохранить советскую систему, дав ответы на вызовы, вставшие перед страной. Это была действительно последняя, относительно стабильная эпоха, предшествовавшая финалу «советского эксперимента». Эта стабильность потенциально давала «шанс на спасение». И именно в этот период стали яркими, выпуклыми многочисленные «внутренние» и «внешние» угрозы, ударявшие по устойчивости советской системы…
Эпоха Брежнева: советский ответ на вызовы времени, 1964-1982 - Синицын Федор Леонидович читать онлайн бесплатно
Одновременно нарастал поток «альтернативной» информации, направленной на граждан СССР. Советские идеологи осознавали эту проблему, называя ее «информационным взрывом». Г.Л. Смирнов еще в 1969 г. в своей статье «Некоторые актуальные вопросы идейно-политического воспитания» писал о об этом «взрыве» так: «Современная техника делает возможным сообщать всему миру практически обо всех более или менее существенных событиях, фактах, явлениях, научных открытиях и т. п. Это гигантски увеличивает объем информации, находящейся в руках общества». Он отмечал, что в связи с этим нарастает «проблема отбора информации, определения критериев ее полезности». Интерес к «информационному взрыву» выражали и граждане страны[1050]. Однако власти справиться с этим «взрывом» не смогли.
Зарубежная пропаганда по-прежнему оказывала на советских людей сильное воздействие. В 1971 г. Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС сообщал, что к тому времени, когда начинает поступать информация о том или ином событии от властей СССР, «часть населения уже имеет сложившееся мнение, которое не просто изменить» — и мнение это было сформировано зарубежными СМИ. В том же году Л.И. Брежнев возмущался действенностью «альтернативной» информации (если «каждый день тебе будут шептать, в конце концов поверишь»). В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», принятом в апреле 1979 г., было объявлено, что «империалистическая пропаганда непрерывно ведет яростное наступление на умы советских людей». Участники обсуждения учебного пособия «Основы политической пропаганды», организованного в Отделе пропаганды и агитации ЦК партии в 1980 г., отмечали, что политическая «сфера является сегодня одной из самых доходчивых, одной из самых восприимчивых, и… голоса, направленные на нас, в значительно меньшей мере занимаются проблемами теоретическими, нежели проблемами ежедневного политического… подстрекательства и всякого рода политического безобразия»[1051], т. е. именно предоставлением актуальной информации, что и было нужно людям.
Попутно с сохранением проблем в системе пропаганды и «политического образования» все более эфемерным становился контакт между властью и народом. Функции средств массовой информации как канала выражения общественного мнения, вопреки изначальным намерениям руководства СССР, были ослаблены[1052]. В 1970-х гг., по сравнению с серединой предыдущего десятилетия, снизилось количество писем, поступавших от граждан в органы власти и СМИ, в которых содержалась постановка общественно значимых проблем[1053].
Приметой времени и второй натурой поколения 1970— 1980-х гг. была «самоцензура»[1054] (чего и добивались власти) — многие люди «автоматически» понимали, что «можно» и что «нельзя» писать или говорить. В стране распространялось «политическое двуязычие» — симуляция предписанного образа мысли с помощью клише и стереотипов «официального политического кода»[1055] (оно же было и проявлением «псевдолояльности»), либо царило молчание — советские социологи во время проведения опросов слышали такие высказывания: «За правду карают, поэтому говорить ничего не буду»[1056]. (Власти же уверяли, что это не так. В марте 1977 г. в письме в адрес ЦК Французской компартии руководство КПСС заявило, что критика в СССР «повсюду… осуществляется свободно, на всех уровнях. И партия это всемерно поддерживает и поощряет… Каждое из таких критических выступлений… обязательно рассматривается, по нему принимаются меры», и таким образом идет учет общественного мнения. В начале 1980-х гг. советский идеолог Р.А. Сафаров объявил, что критический характер общественного мнения присущ «зрелой политической культуре народа»[1057], каковая, по его мнению, имелась в наличии в СССР.)
Власть не смогла или не захотела воплотить на практике заявленную «открытость» к критике. Наоборот, происходило либо ее заглушение, либо она подменялась «обязательным», «аккуратным» указанием на «отдельные недостатки», в рамках чего реальные процессы в обществе примитивизировались[1058]. Еще в 1969 г. В.И. Степаков отмечал, что «в некоторых газетах хватает храбрости остро покритиковать буфетчицу, продавца, управдома, парикмахера, а если приходится затронуть кого-нибудь повыше, то критика становится весьма и весьма обтекаемой». Однако не только СМИ боялись публиковать критику — сама власть проявляла острое ее неприятие. В феврале 1975 г. первый секретарь Бауманского райкома КПСС В.Н. Макеев отнес «критиканство» к явлениям, несущим «социальный вред и разлагающее влияние»[1059].
Общественное мнение, особенно критическое, в СССР по-прежнему не играло практически никакой политической роли. Его изучение, поставленное под контроль государства, изначально имело манипулятивную направленность. Б.А. Грушин отмечал «неприкрытую незаинтересованность органов управления в производстве объективного социального знания» и их «более чем настороженное отношение к любой мало-мальски серьезной информации». По этой причине и была задавлена «неподконтрольная» деятельность ученых-социологов: «Разоблачавшая многочисленные мифы о коренных преимуществах социалистического общества и, сверх того… постоянно ставившая власть перед необходимостью совершения каких-то действий, принятия каких-то решений, такая социология была одновременно и опасна, и неудобна»[1060].
Советская пропаганда утверждала о практическом использовании данных об общественном мнении, в том числе «через представление для всенародного обсуждения проектов государственных планов социально-экономического развития, а также важнейших законодательных актов»[1061]. Однако, даже если это и происходило, использование мнений населения было ограниченным — многие люди опасались открыто высказывать критические идеи, и вносимые ими предложения в основном были «косметическими» (если и вообще шли «от души», а не «по разнарядке» — например, в рамках созываемых властями разнообразных «собраний трудовых коллективов»).
На самом деле власти стремились использовать данные о настроениях людей не для реальных и глубоких перемен в политике, а для контроля за ситуацией — чтобы, во-первых, проводить «профилактику» нежелательных настроений и, во-вторых, предотвращать выход нежелательной информации о состоянии советского общества наружу. По мнению Б.А. Грушина, в 1960-х — 1970-х гг. само употребление термина «массовое сознание» в СССР было затруднено, так как «признание… факта существования массового сознания как сознания эксгруппового (надклассового, внеклассового) уже само по себе ставило под сомнение, если вовсе не перечеркивало… фундаментальнейшие принципы марксизма»[1062]. Поэтому изучение общественного мнения, организованное властями, было не таким, каким оно должно быть. Эта деятельность была фактически провалена, что и признал Ю.В. Андропов в известной речи на пленуме ЦК КПСС в июне 1983 г.: «Мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся»[1063]. (Соответственно, не было и эффективной реакции на проблемы, которые волновали людей.)
Таким образом, власти СССР ожидали от пропаганды «автоматическую» эффективность. В этих условиях оставалось только довести ее материалы до «потребителя». Поэтому основной упор в СССР был сделан на техническое развитие системы пропаганды, ее расширение, охват ею как можно большего числа советских граждан (то же относилось и к системе «политического образования»). Очевидно, так пытались решить и проблему роста потока информации, который «обрушился» на население страны, — нужно было «загасить» этот поток, «задавить» его объемами информации, идущими от властей СССР.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.