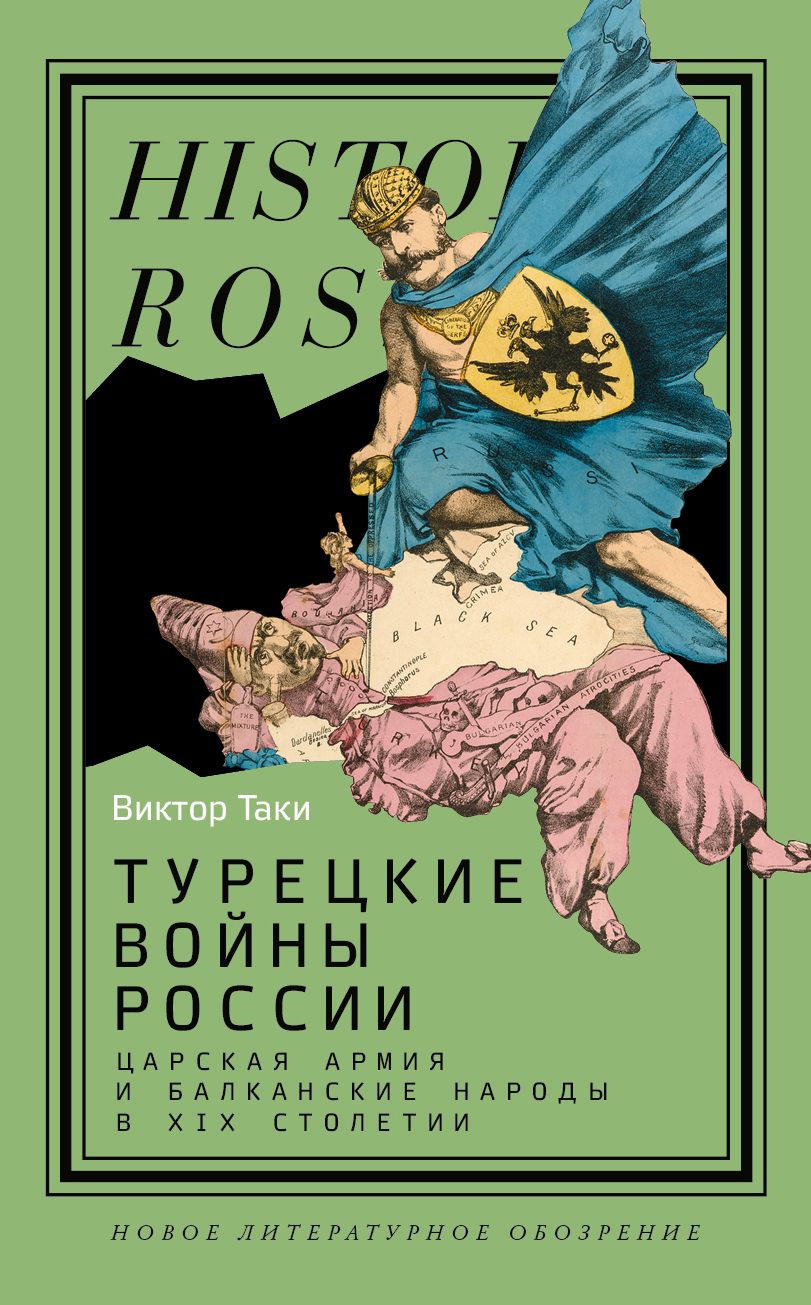Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913) - Рашид Рашатович Субаев Страница 5
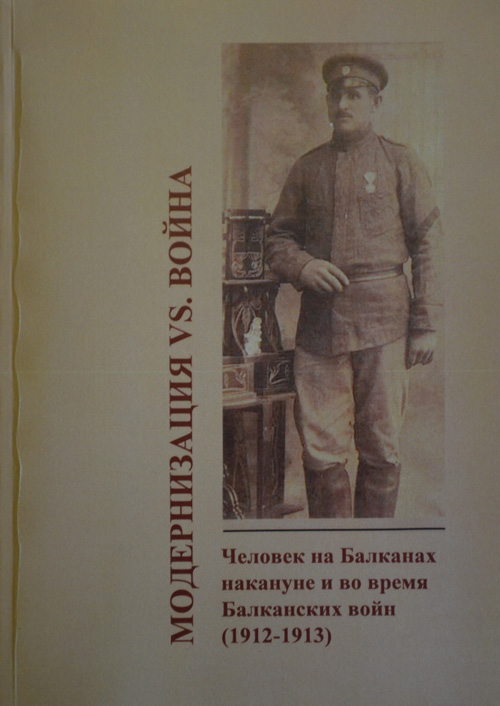
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Рашид Рашатович Субаев
- Страниц: 140
- Добавлено: 2025-11-07 10:00:38
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913) - Рашид Рашатович Субаев краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913) - Рашид Рашатович Субаев» бесплатно полную версию:В сборнике статей предлагаются новые подходы к пониманию опыта Балканских войн 1912–1913 гг. В отличие от ранее преобладавшей в историографии тенденции сосредоточиваться преимущественно на военно-политических событиях и итогах этого регионального столкновения, авторы обратились к его «базе» и истокам — историческому контексту и внутренним реалиям стран полуострова. А именно: традиционной социальной структуре; особенностям менталитета и уровню политической культуры населения и элит; взаимоотношениям власти и общества и др. То есть к тому, что определяет степень «модерности» балканских государств и обществ. Отсюда и вопросы, на которые попытались ответить участники сборника — как имперская традиция Юго-Восточной Европы проявила себя в качестве одной из предпосылок Балканских войн; в чем состоит разгадка «массового национализма» в регионе; с чем в сфере «модернизации» сознания народы Балкан подошли к кануну Новейшего времени.
Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913) - Рашид Рашатович Субаев читать онлайн бесплатно
Мы полагаем главным идейно-методологическим пороком историографии Балкан невыраженность в ней сквозной политико-идеологической традиции, восходящей к истокам европейской цивилизации и пронизывающей собой все историческое развитие региона до 1918 г., традиции, отражающей преемственность исторического развития Юго-Восточной Европы по отношению к Римской империи. В отличие от историографии Западной Европы, признающей имперский фактор в качестве константы политико-идеологической истории региона, в изучении Балкан роль преемственности по отношению к Восточной Римской империи (как Византии, так и других ее производных) сводится в основном к факторам культурно-религиозного влияния.
От ответа на поставленный выше вопрос зависит и ответ на более широкий вопрос: что же, в конце концов, было главной идеологической предпосылкой Балканских войн: национализм или империализм? За «национальное государство» (Грецию, Сербию, Болгарию) или за «этнически окрашенную Византию» сражались балканские народы? Или существовал, как мы попытаемся показать, некий противоречивый симбиоз двух идеологий, отразившийся в столь же противоречивом характере Балканских войн.
Исторический фактор имперской политической и идеологической традиции, издавна существовавшей на Балканах (в более широкой постановке: в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке), долго оказывался недооцененным как в балканских, так и в российской историографиях. Западная историография и политическая публицистика XIX–XX вв. уделяла этому фактору гораздо больше внимания, однако обобщающих констатаций этого явления как сущностного элемента подхода к проблеме балканской истории до сих пор не отмечалось и здесь. Намеченная, было, Янгом к постановке тема «византийского империализма» оказалась в итоге вытесненной в его работе, ставшей у него самого основной темой национализма.
Складывается впечатление, что сейчас до признания роли и значения имперского фактора в изучении истории Балкан остается всего один шаг. Работы многих российских балканистов полны предчувствия утверждения, наконец, в историографии этого фактора, сближающего и уравнивающего методологию и подходы к изучению истории Запада и Востока Европы в духовном, идеологическом и геополитическом аспектах. Указания на эти явления можно, например, обнаружить в работах В.Н. Виноградова, Р.П. Гришиной, И.Ф. Макаровой, В.И. Косика. Имперская традиция не прерывалась на Балканах и после османского завоевания, традиция «византинизма» глубоко вошла в структуры османского государства и общества и предопределила больший вес фактора преемственности империй на основе социальных, идеологических и политических аспектов по сравнению с их противопоставлением на основании религиозных и этнических{27}.
Завоевание османами империи установило новый порядок взаимоотношений этно-конфессиональных групп в регионе на основе иерархии: турки (и мусульмане вообще) в роли правящего сословия; греки в качестве второго по значению, функционально управляющего в административной сфере и политически и духовно господствующего сословия в отношении православного населения региона (милета Рум), главным образом, славян; все остальные этносы и конфессии. Турецко-греческий союз, переживший века, являлся основой стабильности османского господства в регионе. В политическом плане это был союз Высокой Порты и исламской улеммы с Константинопольской патриархией и сложившимся позже слоем администраторов империи — греков-фанариотов. Верховная власть султана в качестве и султана османов, и ромейского императора, и халифа правоверных возвышалась над данной структурой, тяготея к военно-религиозным связям с улеммой.
Греческая имперская модель в наибольшей степени претендовала на исторический континуитет в отношении Византии, поскольку она не была обременена этно-институциональным порогом — и империя поздних Палеологов была греческой, и формально греческим был православный милет Рум. В течение долгого времени в политических воззрениях греческой элиты сосуществовали две империи: империя, узурпированная османами (и являвшаяся лишь одним из элементов более сложной модели общественно-государственной организации ими региона: султанат-империя-халифат) и «империя ромеев», «находящаяся в неволе» у турок, совпадающая с милетом Рум{28} и представленная институтом Вселенской патриархии и всепроникающими структурами греков-фанариотов (особенно в Дунайских княжествах в 1711–1821 гг.){29}.
В историческом плане греки «не оправдали доверия» турок, не довольствуясь ролью второй нации в империи, господами славян и валахов в рамках милета Рум, и исходя из особых качеств своей духовной организации, не переставали претендовать на восстановление своего господства в империи. Залогом уравнивания греками их военного потенциала с османами для целей восстановления своей («Византийской») империи могла бы стать консолидация милета Рум как греческого квазигосударственного образования на основе духовной и этнической ассимиляции других этносов православной конфессии, главным образом, славян и валахов. При условии реальной угрозы физическому существованию этих этносов со стороны турок-мусульман такая стратегия могла иметь шансы на успех. Коль скоро такая угроза в действительности перед славянами и валахами никогда не стояла, попытки их эллинизции вызвали обратную реакцию и привели к возникновению еще одной грани балканского конфликта — греко-славянской, не уступающей по остроте конфликту обоих этих этносов с османами.
Главной задачей освободительного движения балканских народов было не просто абстрактное освобождение от политического и религиозного господства турок-османов, но и восстановление собственной государственности. В каких формах? Решение этого вопроса столь долго откладывалось балканскими и отечественной историографиями, что они пропустили «превентивное наступление» турецкой{30}.
По нашему мнению, в течение периода 1821–1912 гг. на Балканах были предприняты три попытки восстановления «Византии»: греками, сербами и болгарами.
То, что Греческая революция 1821–1830 гг. была попыткой возрождения Византии и лишь под влиянием разности потенциалов греков и турок, расхождения взглядов идеологов освободительного движения и подходов великих держав к проблеме греческой независимости закончилась созданием малого независимого государства, а не обширной грекославянской империи, давно признано историографией. Литература об эллинизме, как о причудливом симбиозе националистической и универсалистской идеологий, поистине необъятна.
Ввиду особой важности проблемы идеологии эллинизма в балканском конфликте, ее агрессивной, ксенофобской природы и антиславянской, и особенно антиболгарской, направленности автор планирует посвятить этой теме специальную статью. Здесь отметим только, что второй комплекс предпосылок Балканских войн — этно-психологического характера в сопоставимой степени проявлялся в отношениях как между турками и христианами, так и внутри христианского лагеря. Особую остроту этот комплекс неприятия приобрел в греко-болгарских отношениях. Начало ему в 1830 г. положил «тезис Фалмерайера», концепция баварского ученого Я. Фалмерайера, согласно которой население современной ему Греции являлось в этническом отношении славянским и албанским, а вовсе не прямыми потомками древних эллинов{31}. Попытки греков преодолеть негативные для них идеологические последствия выдвижения тезиса Фалмерайера придали политической практике эллинизма характер информационно-психологической войны. Но это, как уже отмечалось, тема отдельной статьи.
Вторая половина XIX в. во всей Европе была эпохой перехода от имперской идеологии к идеологии
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.