Эпидемии и народы - Уильям Макнилл Страница 38
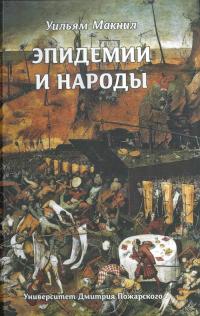
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Уильям Макнилл
- Страниц: 115
- Добавлено: 2025-09-01 06:00:48
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эпидемии и народы - Уильям Макнилл краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Эпидемии и народы - Уильям Макнилл» бесплатно полную версию:В своей работе крупнейший американский макроисторик Уильям Макнил (1917–2016) предложил принципиально новую интерпретацию мировой истории, в центре которой — огромное влияние эпидемических заболеваний на человеческие общества. Политические, экономические, демографические, экологические, культурные и психологические аспекты взаимодействия между людьми и инфекциями Макнил прослеживает начиная с дописьменной истории, делая особый акцент на таких событиях, как Антонинова чума в Римской империи, Черная чума в Европе XIV века, эпидемии холеры XIX века, а также подробно останавливаясь на малоизвестных западному читателю эпидемиях в Китае. Благодаря масштабу материала и новизне теоретического подхода «Эпидемии и народы», впервые опубликованная в 1976 году, сразу стали интеллектуальным бестселлером. Внимание к работе в момент ее первого издания обеспечили и тревожные прогнозы автора. В 1970-х годах многие ученые и медики склонялись к мнению, что великие эпидемии прошлого удалось победить, однако Макнил предупреждал, что новые встречи со смертельными инфекциями неизбежны, поскольку человек остается биологическим существом. В дальнейшем этот прогноз неоднократно подтвердился — от стремительного распространения СПИДа начиная с 1980-х годов до нынешней глобальной пандемии коронавируса.
Эпидемии и народы - Уильям Макнилл читать онлайн бесплатно
Задачей подобных законов было заставить население предоставлять услуги, необходимые для содержания имперской администрации. Очевидно, что единственным основанием для подобных законодательных мер была устойчивая нехватка людей, способных выполнять требуемые задачи добровольно.
В таком случае складывается неизбежное представление, что длительный демографический спад стал результатом усилившегося на территориях Средиземноморья микро — и макропаразитизма. Даже в I веке н. э., после того, как установленный Августом мир завершил разрушительные гражданские войны, в империи присутствовали отдельные регионы — в особенности Греция и Италия, — которые оказались неспособны к процветанию. В рамках римской имперской системы налоги собирались с земель, близких к морю, после чего свободные денежные средства перенаправлялись армиям, размещенным на пограничьях. Подобная конструкция оставалась жизнеспособной (хотя Август и другие императоры зачастую испытывали сложности с исполнением военных расходов) до того, как тяжелые удары незнакомых заболеваний серьезно подорвали богатство ядерных средиземноморских территорий империи в промежутке между 165 и 266 годами н. э. После этого из-за стремительного вымирания значительной части городских популяций в наиболее активных центрах средиземноморской торговли приток денежных поступлений в имперскую казну сократился. В результате платить солдатам по привычным ставкам более не представлялось возможным, и мятежные войска обратились против гражданского общества, чтобы изымать (главным образом силой) всё, что только можно, у незащищенных территорий, которые римский мир создал на всем протяжении средиземноморских ядер империи.
За этим последовали дальнейшее разложение экономики, депопуляция и гуманитарные катастрофы.
Военные мятежи и гражданские войны III века н. э. быстро уничтожили одну из групп землевладельцев — куриалов, чьи рентные доходы поддерживали атрибуты внешнего лоска высокой греко-римской культуры в провинциальных городах империи. Однако практически сразу на смену им поднялся новый, причем в большей степени сельский землевладельческий класс, зачастую частично освобожденный от имперских налогов. По мере того, как возобладала данная трансформация, находившееся под жестким гнетом крестьянское население империи, подчиняясь требованиям обеспечивать товары и услуги для местного землевладельца, избегало прежней опасности в виде уплаты рент и налогов разным властям, однако сомнительно, что совокупное давление на земледельцев существенно снизилось. Напротив, после того как все большее количество ресурсов перетекало в руки местных властителей, ресурсы в распоряжении центральной администрации сокращались, так что империя оказывалась более уязвимой для внешнего нападения. Развязкой, как хорошо известно, стал распад имперской ткани в западных провинциях и неустойчивое ее сохранение на более населенном востоке.
Историки традиционно делали акцент на макропаразитической стороне этого баланса. Это совпадает с общим смыслом сохранившихся источников, которые позволяют достаточно точно реконструировать картину войн, миграций и бегств с той или иной территории, которые привели к падению Западной Римской империи. Однако разрушительные действия армий и безжалостность сборщиков рент и налогов — пусть даже они действительно имели огромное значение, — вероятно, не наносили средиземноморским популяциям такой же урон, как возобновляющиеся вспышки заболеваний, поскольку болезни, как правило, обнаруживали новые возможности, следуя по пятам за марширующими армиями и бегством населения.
Как представляется, в средиземноморских землях произошло следующее: терпимый макропаразитический баланс — имперские армии и бюрократия I века н. э., наложившиеся на разнообразную сеть локальных землевладельцев, которые в целом притязали на городской греко-римский стиль жизни, — стал невыносимо перегруженным после того, как первые разрушительные нашествия эпидемических заболеваний сделали свое дело во II–III веках. После этого макропаразитические элементы римского социума стали осуществлять дальнейшее уничтожение населения и производства, а последовавшие беспорядки, голод, миграции, концентрация и рассеяние человеческого отребья создавали новые благоприятные возможности для того, чтобы эпидемические заболевания приводили к еще большему сокращению населения. Так возник порочный круг, который длился на протяжении нескольких столетий, несмотря на ряд периодов частичной стабилизации и локального демографического восстановления[131].
Историки давно признавали значимость заболеваний в рамках всего этого процесса. Однако, не осознавая необычайной силы той или иной новой инфекции, появляющейся среди популяции, которая не имеет к ней какого-либо типа сложившегося иммунитета или сопротивляемости, историки систематически недооценивали значение двух исходных эпидемий в запуске процесса общей деградации. Между тем исторические свидетельства о катастрофической природе эпидемических вторжений в незнакомые с болезнями популяции имеются в избытке. Как будет показано в главе V, особенно опустошительный эффект от подверженности новым заболеваниям регулярно демонстрировали события, происходившие с изолированными популяциями (наиболее очевидный пример — американские индейцы), когда они встречались с европейскими болезнями после 1500 года.
Политические, экономические и культурные последствия интенсификации микро — и макропаразитизма на территориях Средиземноморья слишком хорошо известны, чтобы им нужно было уделять здесь много внимания. Повторявшиеся волны варварских вторжений, сопровождавшиеся упадком городов, миграцией ремесленников в сельскую местность, утратой навыков (включая грамотность) и распадом имперской администрации — все это знакомые черты так называемых темных веков на Западе.
Одновременно прежние представления о мире принципиально изменились в ходе подъема и консолидации христианства. Одним из преимуществ христиан над их современниками-язычниками было то, что забота о больных — даже во время эпидемии — была для них общепризнанным религиозным долгом. Когда перестают нормально функционировать медицинские службы, даже абсолютно элементарный уход за больными существенно сократит смертность. Например, если просто кормить и поить тех людей, которые на какое-то время оказались настолько немощны, что не могут сами ухаживать за собой, это позволит им выздороветь, а не погибнуть ужасным образом. Более того, выжившие благодаря подобным мерам по уходу, скорее всего, ощутят благодарность и искреннюю солидарность с теми, кто спас им жизнь.
Поэтому воздействие катастрофических эпидемий укрепляло христианские церкви в то время, когда большинство других институтов оказались дискредитированы. Христианские авторы хорошо осознавали этот источник силы и порой похвалялись тем, каким образом христиане предлагали друг другу взаимопомощь во времена эпидемий, тогда как язычники избегали заболевших и бессердечно бросали их в беде[132].
Еще одно преимущество христиан над язычниками заключалось в том, что проповеди их веры наделяли жизнь смыслом даже в том случае, если вокруг происходили внезапные и неожиданные смерти. В конце концов, освобождение от страданий — в идеале, пусть и не всегда на практике — было очень желанным. Кроме того, даже те жалкие остатки выживших, кому как-то удавалось пережить войну или мор — или и то, и другое сразу, — могли рассчитывать на теплое, незамедлительное и целительное утешение при мысли о небесном существовании тех ушедших родственников и друзей, которые умерли как добрые христиане. Всемогущество Бога наделяло жизнь смыслом и во времена бедствий, и во времена процветания, но на самом деле рука Бога становилась более очевидной не в спокойные времена, а тогда, когда неожиданное и непредвиденное бедствие сокрушало гордость язычников и подрывало светские институты. Поэтому христианство было системой мыслей
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




