Очерки культурной истории обуви в России - Мария Терехова Страница 2
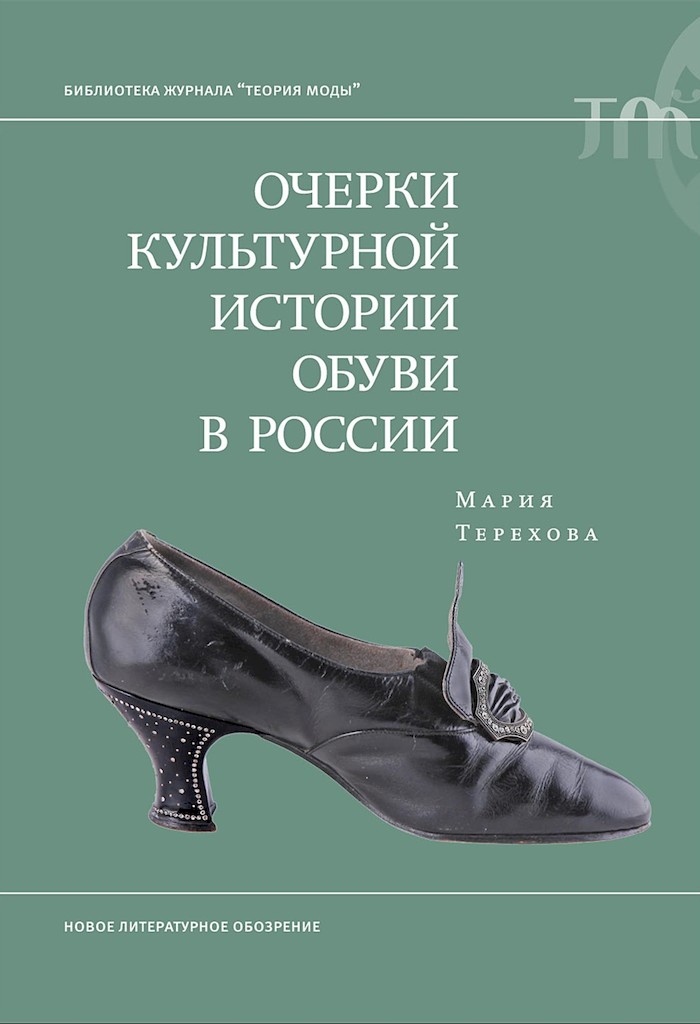
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Мария Терехова
- Страниц: 14
- Добавлено: 2025-09-29 10:00:12
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Очерки культурной истории обуви в России - Мария Терехова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Очерки культурной истории обуви в России - Мария Терехова» бесплатно полную версию:Туфли-танго, боты «Прощай, молодость!», сапоги-чулки, ботинки Dr. Martens… Как появились эти и многие другие виды обуви в России? Где ее производили и продавали? Кто, как и почему ее носил, и что по этому поводу думал? Как она связана с модой, технологиями, историко-культурным и социально-политическим контекстами? В чем заключались ее культурные смыслы?
Поиску ответов на эти вопросы посвящена книга Марии Тереховой, в которой автор стремится «дать голос» таким, казалось бы, тривиальным предметам как сапоги и ботинки. Но не менее важны для исследования и голоса их владельцев: воспоминания, дневники и письма очевидцев разных исторических эпох. На пересечении человеческих и «вещных» голосов открываются новые смыслы, ведь обувь зачастую связана с личной и семейной памятью, эмоционально-аффективно и физически взаимодействует со своим обладателем. Мы носим обувь, а она практически носит нас, и вместе мы входим в историю.
Мария Терехова — историк моды и культуры, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Очерки культурной истории обуви в России - Мария Терехова читать онлайн бесплатно
Итак, книга про культурную историю обуви в России нужна и, хочется верить, может быть интересна не только ее автору, но и читателю. Моя книга — первый опыт подобного рода, не претендующий ни в коей мере на всеохватность, потому и названа она «очерками». Почему я ограничилась временными рамками XIX–XX веков? Я могла бы назвать какую-то обстоятельную причину, но скажу честно: решила писать о том, в чем лучше разбираюсь и что мне самой кажется интересным. По этой же причине в книге почти не идет речь об этнографической и национальной обуви, а также о военной форме, спортивной и специальной экипировке (тем, кому интересна тема спортивной обуви в советском и постсоветском контексте, рекомендую книгу Екатерины Кулиничевой «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви»; Кулиничева 2018).
Не претендует книга и на полную непредвзятость: я, безусловно, стараюсь ориентироваться на факты и соблюдать академические критерии качества отбора источников и корректности цитирования, поскольку считаю это критически важным. Но в конечном счете согласна с мнением историка культуры Игоря Нарского, что исследование и «эффекты реальности» рождаются не из фактов и документов, а «из связывающей их авторской интерпретативной логики, содержащейся не в источниках, а в авторском воображении» (Нарский, Нарская 2023: 49).
В центре внимания книги, прежде всего, культурные смыслы обуви, поэтому методологической основой стала культурно-семиотическая оптика — такой ракурс взгляда и терминология кажутся мне наиболее подходящими. Культурные смыслы материальных вещей — сложный, комплексный предмет исследования. Поэтому в поиске ключей к интерпретации обуви как культурного текста[1] приходится обращаться и к понятиям из области социологии, культурной антропологии, искусствознания, и к приемам дискурс-анализа.
Главы выстроены по тематико-хронологическому принципу: от более ранних периодов (начало XIX века) к поздним (1990-е), с отдельными вкраплениями тематических отступлений (например, глава 4). В рамках глав, посвященных соответствующему периоду, я не стремлюсь охватить все аспекты обувной истории, выделяя лишь те из них, которые кажутся мне наиболее значимыми, показательными и интересными. Каждая глава начинается с преамбулы историко-культурного, социально-экономического или даже технологического плана, чтобы по возможности контекстуализировать сведения об обуви. Полагаю, что без такого введения и культурно-исторической контекстуализации книга превратится в сухое и малоинформативное перечисление смены форм и фасонов в духе «сначала носили красное и длинное, а потом — зеленое и гладкое». По-моему, это было бы скучно.
Помимо вещественных музейных предметов[2] в качестве источников я использую визуальные материалы, научную литературу, периодику, публицистику и документы, неопубликованные архивные материалы, а также произведения художественной литературы, изобразительного искусства и кино. Отдельно хочу остановиться на источниках личного происхождения — «эго-документах»: мемуарах, дневниках, рукописных альбомах и материалах устной истории. Я старалась широко использовать этот корпус материалов, поскольку считаю, что именно прямая речь и свидетельства личного опыта — при всей своей предвзятости, фрагментарности, субъективности и местами даже недостоверности — придают исследованию то бесценное, без чего история превращается в набор дат, цифр и букв, — человеческое измерение[3].
Текст оживает вместе с прямой речью людей, каждый из которых независимо от возраста, пола/гендера, национальности и профессии — носитель уникального опыта. Так история перестает быть нагромождением статистических данных, фактов, событий, абстрактных категорий и умозрительных концепций, но обретает лицо, вернее, множество разных лиц. Она очеловечивается. Можно ли это назвать гуманистической исследовательской оптикой? Хотелось бы верить. В конечном итоге эта книга не про обувь, а про людей. Разве есть что-то важнее человека и его уникального жизненного опыта? По-моему, в тяжелые времена ответ на этот вопрос и нужнее, и очевиднее, чем когда-либо.
Хочу искренне поблагодарить всех, кто на каждом этапе работы помогал советом, материалами, оказывал организационную и эмоциональную поддержку. Спасибо сотрудникам архивов, музеев и частных собраний, которые познакомили меня со своими материалами. Спасибо всем информантам, поделившимся своими воспоминаниями, — многие из них не захотели называть свои имена, и я с уважением отношусь к этому желанию. Не буду перечислять всех поименно, боясь упустить чью-то фамилию. Сделаю несколько исключений: благодарю Людмилу Алябьеву — за терпение и неизменный профессионализм, Павла Герасименко — за вдохновляющий сюжет из семейной истории, Юлию Демиденко — за идею обувного каталога, Назима Мустафаева — за фотографии предметов из коллекции виртуального музея обуви Shoe Icons, Ольгу Щербакову, хранителя фонда костюма и тканей ГМИ СПб, за содействие и профессионализм.
Глава 1. Мода, статус, гендер и (не)мобильность: обувь на пороге индустриальной эпохи
История обуви — особая тема в рамках общей истории костюма и моды. В целом подчиняясь магистральным модным течениям, обувной дизайн эволюционировал в своем специфическом темпе. Как правило, стилистические изменения в обуви происходили медленнее, чем в области одежды или аксессуаров. В сущности, если силуэт модного дамского платья или требования к гарнировке[4] шляпки могли радикально измениться за пару сезонов, то фасоны обуви сохранялись без существенных изменений на протяжении многих лет. Вплоть до последней трети XIX века сроки изменения доминирующих обувных фасонов измерялись десятилетиями. Так, например, мода на женскую обувь без каблука держалась с начала XIX века до 1840-х годов, и только к середине столетия каблук, сначала невысокий, стал возвращаться в обувной гардероб. Важно и то, что долгое время каждый новый модный фасон, утвердившись, фактически вытеснял предыдущий. Такая стилистическая стабильность была одновременно и следствием, и причиной того, что обувь транслировала более глубокую социокультурную семантику, чем какое-нибудь эфемерное новшество в гарнировке туалета. На пороге XIX века обувь однозначно сообщала о социальном статусе, достатке и гендере хозяина (хозяйки).
Рубеж столетий — время фундаментальных изменений в области костюма, в частности едва ли не противоположными путями пошло развитие фасонов мужской и женской обуви. В мужскую моду эпохи наполеоновских войн на смену туфлям на каблуке вошли сапоги, и далее развитие форм обуви шло по пути функционализма и удобства. Напротив, женская мода предписывала носить обувь из тончайших материалов и столь открытую, что ее приходилось буквально привязывать в ногам, чтобы не терять на ходу.
Обувь без каблука, имитирующая древнегреческие сандалии, отражала увлечение просвещенной европейской публики эстетикой античности — игры в
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




