«Евгений Онегин» - Дмитрий Иванович Писарев Страница 11
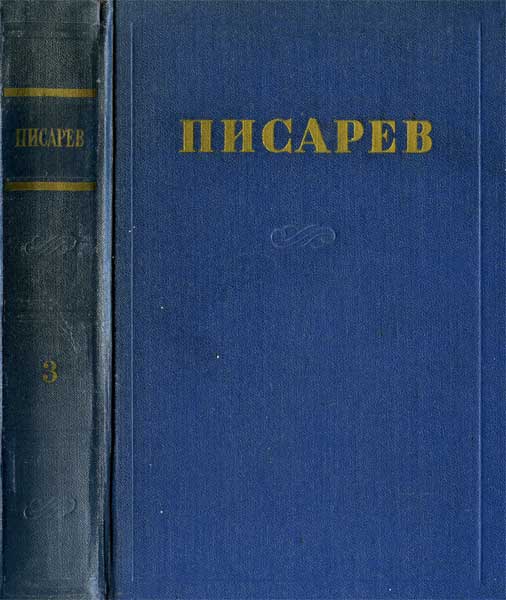
- Категория: Документальные книги / Публицистика
- Автор: Дмитрий Иванович Писарев
- Страниц: 24
- Добавлено: 2025-09-02 05:02:05
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«Евгений Онегин» - Дмитрий Иванович Писарев краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу ««Евгений Онегин» - Дмитрий Иванович Писарев» бесплатно полную версию:Замысел дать полемическую характеристику творчества Пушкина возник у Писарева еще в 1864 г. «Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, — писал он в „Нерешенном вопросе“ („Реалисты“) в ноябрьской книжке „Русского слова“ за 1864 г., — состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию, и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом».
Фрагменты:
«Читатели мои, по всей вероятности, знают и помнят очень хорошо, что Пушкин в „Евгении Онегине“ рассуждает чрезвычайно пространно о всевозможных предметах, очень мало относящихся к делу: тут и дамские ножки, и сравнение аи с бордо, и негодование против альбомов петербургских дам, и соображения о том, что наше северное лето — карикатура южных зим, воспоминания о садах лицея, и многое множество других вставок и украшений. А между тем когда нужно решить действительно важный вопрос, когда надо показать, что у главных действующих лиц были определенные понятия о жизни и о междучеловеческих отношениях, тогда наш великий поэт отделывается коротким и совершенно неопределенным намеком на какие-то разнообразные беседы, которые будто бы рождали споры и влекли к размышлению. Один такой спор, очевидно, охарактеризовал бы Онегина несравненно полнее, чем десятки очень милых, но совершенно ненужных подробностей о том, как он играл на бильярде тупым кием, как он садился в ванну со льдом, в котором часу он обедал и так далее. Ни одного такого спора мы не видим в романе».
«Личные понятия, личные чувства, личные желания Онегина так слабы и вялы, что они не могут иметь никакого ощутительного влияния на его поступки. Поступит он во всяком случае так, как того потребует от него светская толпа…»
«Онегин остается ничтожнейшим пошляком до самого конца своей истории с Ленским, а Пушкин до самого конца продолжает воспевать его поступки как грандиозные и трагические события».
«Пушкин так красиво описывает мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить в пользу ничтожного Онегина не только простодушную массу читателей, но даже такого замечательного человека и такого тонкого критика, как Белинский».
«Ужаснее всех других, — говорит Белинский, — те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастья, — и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования».
«Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского общества в двадцатых годах, то энциклопедия русской жизни ответит вам, что эта образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась и страдала то от скуки, то от любви. И только? — спросите вы. — И только! — ответит энциклопедия. <…>
Зато энциклопедия сообщает нам очень подробные сведения о столичных ресторанах, о танцовщице Истоминой, которая летает по сцене, „как пух от уст Эола“, о том, что варенье подается на блюдечках, а брусничная вода в кувшине; о том, что дамы говорили по-русски с грамматическими ошибками; о том, какие стишки пишутся в альбомах уездных барышень; о том, что шампанское заменяется иногда в деревнях цымлянским; о том, что котильон танцуется после мазурки, и так далее. Словом, вы найдете описание многих мелких обычаев, но из этих крошечных кусочков, годных только для записного антиквария, вы не извлечете почти ничего для физиологии или для патологии тогдашнего общества; вы решительно не узнаете, какими идеями или иллюзиями жило это общество; вы решительно не узнаете, что давало ему смысл и направление или что поддерживало в нем бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы не увидите; вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, старинной мебели и старинных ужимок».
[Аннотация верстальщика файла.]
«Евгений Онегин» - Дмитрий Иванович Писарев читать онлайн бесплатно
Пушкин так красиво описывает мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить в пользу ничтожного Онегина не только простодушную массу читателей, но даже такого замечательного человека и такого тонкого критика, как Белинский. «Мы, — говорит Белинский, — нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом; но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении» (т. VIII, стр. 563).
И это все! Хорош приговор. Он не оправдывает Онегина, а между тем тут же утверждает, что только герой на месте Онегина поступил бы иначе. Значит, вполне оправдывает, потому что мы не имеем никакого права требовать от обыкновенных людей таких подвигов нравственного мужества, которые превышают средний уровень обыкновенных человеческих сил. Но разве ж это правда? Разве в самом деле надо быть героем, чтобы уметь любить своего друга и чтобы не убивать собственноручно, из низкой трусости, тех людей, которых мы любим всем сердцем? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героям, Белинский унижает человеческую природу и без всякой надобности является защитником нравственной гнилости и тряпичности. А вводит его в этот тяжелый грех его крайняя впечатлительность, подкупленная тем обстоятельством, что «подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении». Если бы Белинский потрудился задать себе вопрос, на что потрачено это художественное совершенство и к чему оно клонится, то он немедленно убедился бы в том, что за такие художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта. Фанатические драмы Кальдерона могли быть превосходны в художественном отношении, но влияние их на испанское общество было во всяком случае отвратительно.
К Ленскому Белинский относится очень справедливо и без малейшей нежности, вероятно потому, что ему самому приходилось встречать романтиков в действительной жизни. «Люди, подобные Ленскому, — говорит Белинский, — при всех их неоспоримых достоинствах (?), нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохраняют навсегда свой первоначальный тип, делаются теми устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастье внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и… Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно прекрасно (?) было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца (?), в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди» (т. VIII, стр. 564—565).
С этими словами Белинского я совершенно согласен; не вижу я только никаких неоспоримых достоинств в Ленском, не нахожу в нем ничего обаятельно прекрасного и не умею восхищаться девственною чистотою его сердца, потому что решительно не понимаю, кому нужна эта девственная чистота, какую она может принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована от грязнящих и развращающих прикосновений действительной жизни. Если из приведенной мною цитаты выбросить вон неоспоримые достоинства, обаятельно прекрасное и девственную чистоту, то в остатке получится энергический и строгий приговор последовательного реалиста не только над одними романтиками, но и над всеми художниками, оставляющими без внимания горе и нужду современной действительности. Если, по мнению Белинского, несносны, пусты и пошлы те люди, которые стремятся душою в надзвездную сторону мечтаний, то, очевидно, не за что миловать и тех людей, которые стремятся душою в мертвую тишину исторического прошедшего. И те и другие одинаково отвертываются от суеты этой земли, «где есть и голод, и нужда, и…», а именно в этом презрении к суете земли и заключается их настоящая вина. Раз как они уже отвернулись от суеты земли, тогда уже решительно все равно, в какую бы сторону они ни смотрели. Тогда они уже отрезанный ломоть, и о них можно совершенно справедливо сказать вместе с Белинским, что «это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди».
Не мешает также заметить, что эти слова Белинского чрезвычайно сильно задевают самого Пушкина, который в течение всей своей поэтической деятельности постоянно и систематически игнорировал и голод, и нужду, и все остальные болячки действительной жизни. Когда же он случайно натыкался на какую-нибудь крошечную болячку, тогда он обыкновенно брал ее под свое покровительство, т. е. старался доказать ее роковую необходимость. — Это, пожалуй, будет даже похуже, чем стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний.
После смерти Ленского Онегин отправляется странствовать по России, везде хмурится и пищит, везде смотрит с бессмысленным презрением на занятия суетной толпы и, наконец, доходит до такой нелепости, что начинает завидовать больным, которых он видит на кавказских минеральных водах.
Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! Тоска, тоска!
Размышления Белинского по поводу этих бессмысленных жалоб чрезвычайно любопытны; они дают нам самое наглядное понятие о глубокой искренности нашего великого критика, о его необыкновенной правдивости и о его изумительной способности принимать за чистую монету каждое человеческое слово, даже такое, в котором очень нетрудно распознать самую грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь! — восклицает Белинский. — Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




