Полка: История русской поэзии - Лев Владимирович Оборин Страница 73
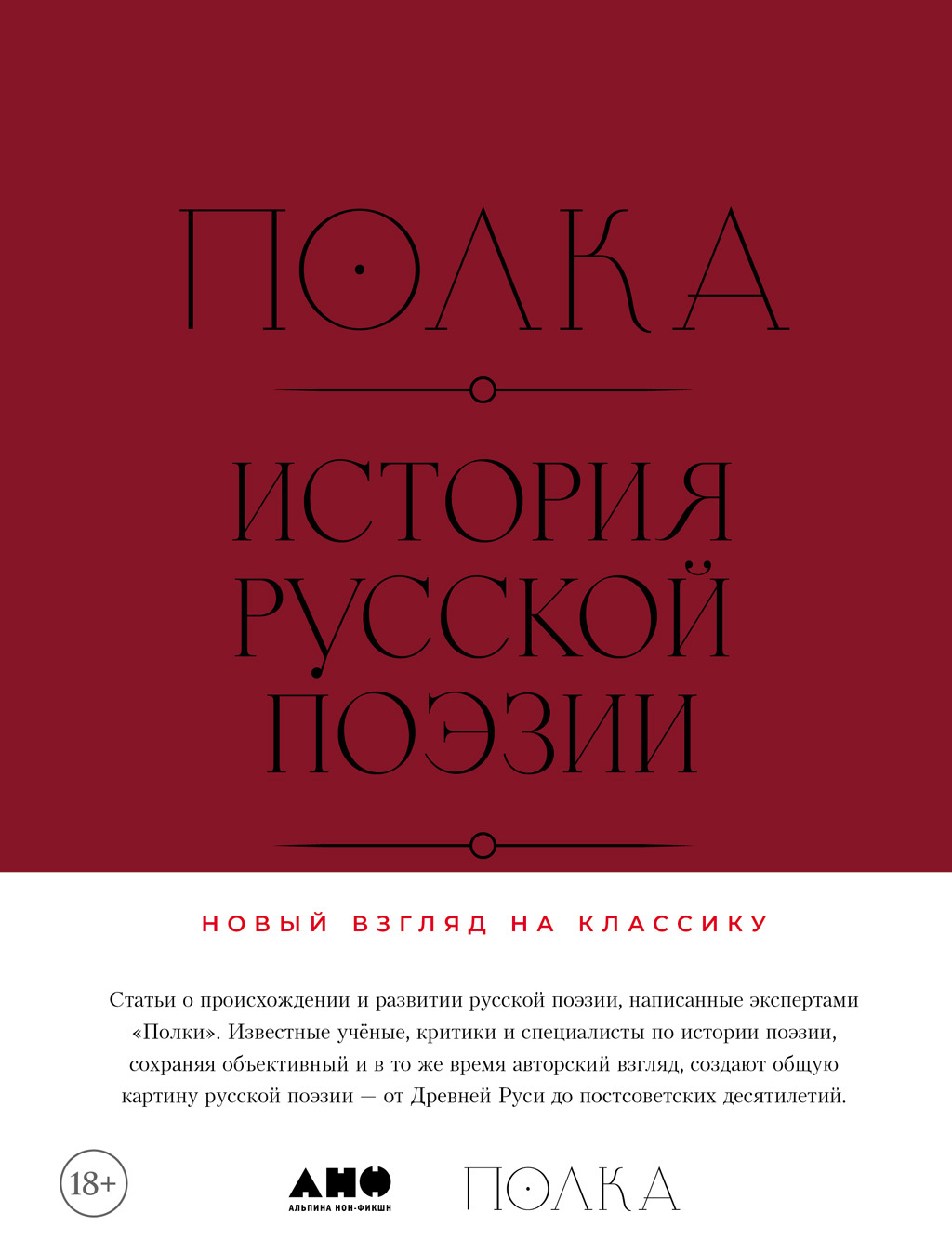
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Лев Владимирович Оборин
- Страниц: 211
- Добавлено: 2025-08-28 23:02:43
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Полка: История русской поэзии - Лев Владимирович Оборин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Полка: История русской поэзии - Лев Владимирович Оборин» бесплатно полную версию:О чем
В это издание вошли статьи, написанные авторами проекта «Полка» для большого курса «История русской поэзии», который охватывает период от Древней Руси до современности.
Александр Архангельский, Алина Бодрова, Александр Долинин, Дина Магомедова, Лев Оборин, Валерий Шубинский рассказывают о происхождении и развитии русской поэзии: как древнерусская поэзия стала русской? Откуда появился романтизм? Что сделали Ломоносов, Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский, Ахматова, Бродский и Пригов? Чем объясняется поэтический взрыв Серебряного века? Как в советское время сосуществовали официальная и неофициальная поэзия? Что происходило в русской поэзии постсоветских десятилетий?
Романтическая литература, и прежде всего поэзия, создала такой образ лирического «я», который стал ассоциироваться с конкретным, биографическим автором. Мы настолько привыкли к такой модели чтения поэзии, что часто не осознаём, насколько поздно она появилась. Ни античные, ни средневековые авторы, ни даже поэты XVIII века не предполагали, что их тексты можно читать таким образом, не связывая их с жанровой традицией и авторитетными образцами. Субъектность, или, иначе говоря, экспрессивность, поэзии придумали и распространили романтики, для которых несомненной ценностью обладала индивидуальность чувств и мыслей. Эту уникальность внутреннего мира и должна была выразить лирика.
Особенности
Красивое издание с большим количеством ч/б иллюстраций.
Бродского и Аронзона часто сравнивают – и часто противопоставляют; в последние годы очевидно, что поэтика Аронзона оказалась «открывающей», знаковой для многих авторов, продолжающих духовную, визионерскую линию в русской поэзии. Валерий Шубинский пишет об Аронзоне, что «ни один поэт так не „выпадает“ из своего поколения», как он; пожалуй, время для аронзоновских стихов и прозы наступило действительно позже, чем они были написаны. Аронзон прожил недолгую жизнь (покончил с собой или погиб в результате несчастного случая в возрасте 31 года). Через эксперименты, в том числе с визуальной поэзией, он прошёл быстрый путь к чистому звучанию, к стихам, сосредоточенным на ясных и светлых образах, почти к стихотворным молитвам.
Полка: История русской поэзии - Лев Владимирович Оборин читать онлайн бесплатно
Если судить о футуризме только по таким его крайностям, то и впрямь можно заключить, что футуристическое стихотворение создаётся только для того, чтобы эпатировать публику. Но футуристы гораздо шире, чем любая другая поэтическая школа, допускали многообразные языковые эксперименты. И эти эксперименты давали возможность по-новому осмыслить возможности поэтического слова.
Елена Гуро.
1900 год[262]
Приведём ещё один «портрет языка», более внятный даже неподготовленному читателю, – стихотворение Елены Гуро «Финляндия».
Это ли? Нет ли?
Хвои шуят, – шуят
Анна – Мария, Лиза, – нет?
Это ли? – Озеро ли?
Лулла, лолла, лалла-лу,
Лиза, лолла, лулла-ли.
Хвои шуят, шуят,
ти-и-и, ти-и-у-у.
Лес ли, – озеро ли?
Это ли?
Эх, Анна, Мария, Лиза,
Хей-тара!
Тере-дере-дере… Ху!
Холе-кулэ-нэээ.
Озеро ли? – Лес ли?
Тио-и
ви-и… у.
В стихотворении вполне достаточно значимых слов – лес, озеро, хвои. И само заглавие сразу задаёт совершенно определённое географическое и природное пространство, дополненное женскими именами, распространёнными в Финляндии и тоже создающими эффект инонационального пространства. Глагол «шуят» в сочетании «хвои шуят» воспринимается как прозрачный неологизм, созвучный с «шумят». Природный мир окружает лирического героя-неофита, задающего простые вопросы и вслушивающегося в чужой язык, наполненный звуковыми повторами на «л» и «р». Для человека, знающего финский, некоторые звукосочетания – значимые слова (хей = привет), в целом же эти повторы создают такой же фонетический портрет финского языка, как в стихотворении Кручёных – портрет русской фонетики.
Михаил Матюшин. Живописно-музыкальная композиция. 1918 год[263]
Но футуристическое стихотворение отличается не только смелыми языковыми экспериментами, но и новым пониманием «поэтического» и «непоэтического». Футуристы увидели поэзию там, где её не замечали ни классики, ни символисты. В то же время они принципиально снижали, пародировали образы традиционной «высокой» поэзии. Как заметил близкий к футуристам критик и филолог Виктор Шкловский, при взгляде на отражение лунного света в воде символист скажет, что это – серебряная дорожка, а футурист – что эта дорожка похожа на селёдку. И добавит: хорошо бы к этой селёдке хлеба.
И поэтизацию «низкого», и снижение «высокого» можно наблюдать в поэзии одного из самых известных поэтов-футуристов – Владимира Маяковского.
Его стихотворение «А вы могли бы» – своеобразный манифест футуризма:
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Владимир Маяковский.
А вы могли бы? Страница из книги Маяковского «Для голоса», оформленной Эль Лисицким.
1923 год[264]
Легко увидеть, что в стихотворении две части: первая – до слов «Прочёл я зовы новых губ», где главное действующее лицо – сам лирический герой («я»). Вторая – от строчки «А вы» до конца, где появляется какая-то аудитория («вы»), к которой обращается поэт.
В первой части три предложения, каждое занимает две строчки. Каждое двустишие описывает действие героя. Первые две строчки одновременно и понятны, и непонятны. Если на карту плеснуть краской, то она и в самом деле окажется смазанной. Но что означает «карта будня»? И откуда возникает образ краски?
На этот вопрос легко ответить, если вспомнить, что существуют выражения «скрасить жизнь», «скрасить будни». Правда, «краска» в этих выражениях – это стёртая метафора (подобно глаголам движения в таких выражениях, как «дождь идёт» или «нервы расходились»). Маяковский обновляет метафору, резко избавляет её от инерции. Со словом «карта» ассоциируются представления о схематичности, правильности, предсказуемости, узнаваемости. «Смазать карту будня» – значит разрушить схематичность, остранить знакомое, сделать неяркое – ярким.
Далее блюдо студня сравнивается с океаном. Что между ними общего? Только то, что блюдо студня немного похоже на водоём. Студень – нечто застывшее, пусть и слегка дрожащее; океан – само движение, буря. Студень – самое обычное бытовое блюдо, океан – воплощение необычности, недаром образ океана так любили романтики и символисты. К тому же блюдо студня – ограниченное, малое пространство, а океан – нечто огромное, безграничное. Увидеть движение в неподвижном, необычное в обычном, огромное в малом – таков смысл второго двустишия.
Чтобы объяснить третье двустишие, где на «чешуе» прочитываются «зовы новых губ», надо понять, что «жестяная рыба» – это вывеска над лавкой. Узор её чешуи по форме мог напоминать рисунок губ. Но вывеска – это нечто прозаическое, а «зовы новых губ» – это, может быть, мечта о новой любви, а может быть – новые идеи. Так или иначе, это образ, связанный с жизнью человеческой души. Способность видеть духовное в материальном, высокое – в низком – это смысл третьего двустишия.
Итак, все три двустишия – вариации на одну и ту же тему: сделать обычное необычным, увидеть поэзию в окружающем быте. В конце стихотворения Маяковский требует от своих антагонистов того же действия: увидеть в «водосточной трубе» флейту, да ещё и сыграть на ней ноктюрн. Очевидно, аудитория в этом стихотворении, как и всегда у раннего Маяковского, – недружественная, чужая: «Знаете ли вы, бездарные, многие…», «Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош». Но всё-таки кто эти «вы», кто адресат в стихотворении Маяковского?
Первое, что может прийти в голову, – это толпа, обыватели, которым недоступно творческое отношение к жизни. Но музыкальные образы флейты и ноктюрна не случайно появляются только во второй части. Ведь в первой части стихотворения все действия и предметы были связаны с изобразительным искусством – краска, карта (блюдо, рыба с вывески – это излюбленные предметы натюрмортов). Как упоминалось выше, все футуристы были одновременно и художниками, а музыку считали высшим искусством их литературные противники – символисты. Последние строчки не просто противопоставляют художника и толпу: вполне вероятно, это ещё и полемический выпад против символистов.
Второй принцип футуристической поэзии – снижение традиционно «высокого» – можно увидеть в стихотворении Маяковского «Послушайте!».
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянётся –
не перенесёт эту беззвёздную муку!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




