Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 61
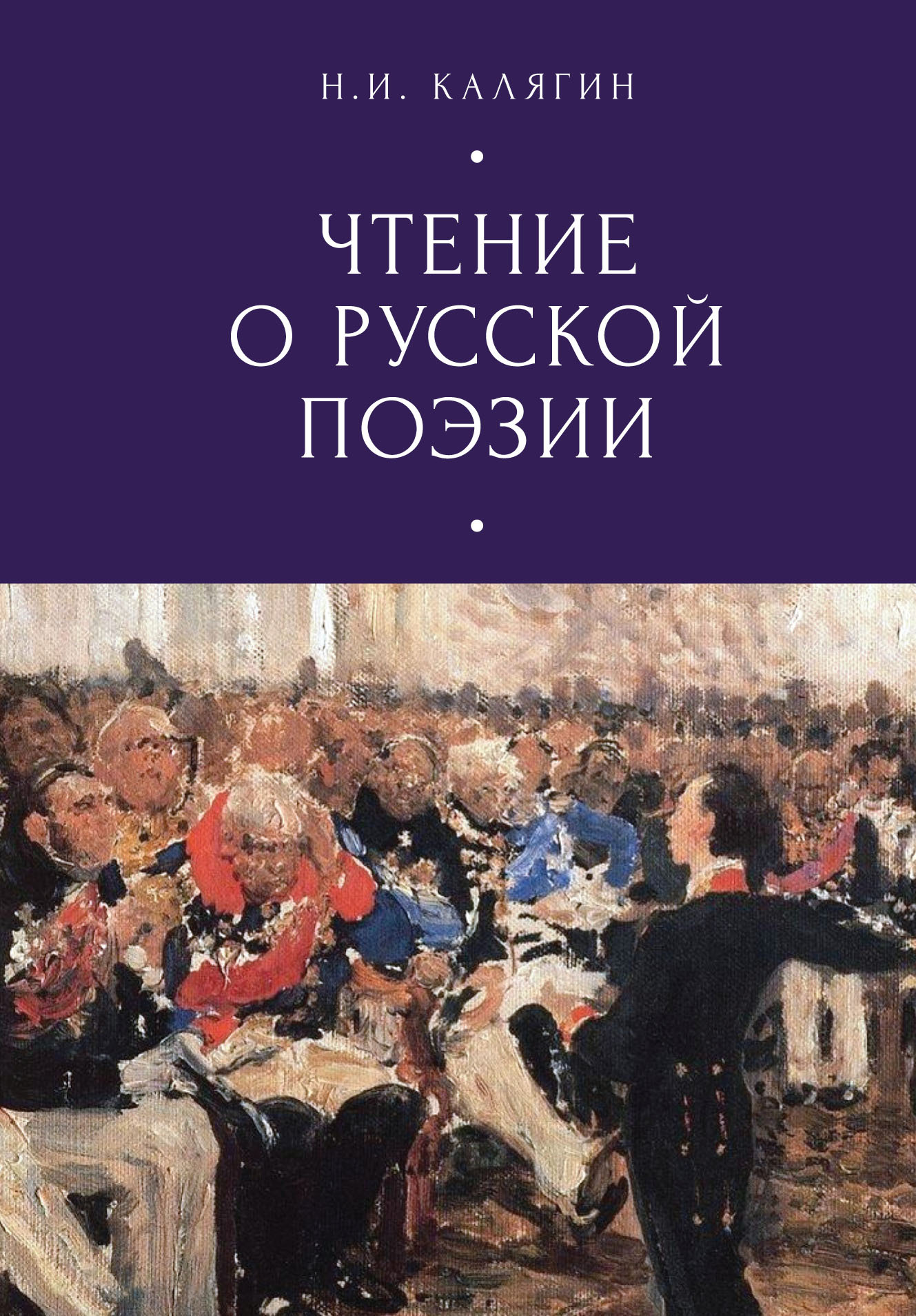
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
В мире Грибоедова не было ничего умилительного. Дорога жизни вела его через пустыню, где месяц (не какой-нибудь, а плешивый катенинский) бесстрастно светил на камни, на колючки, на разновидных жалящих гадин. И только мощный разум спасал его от отчаяния, напоминая о существовании иных пластов бытия. «Все плохо, все более или менее неправильно, но если мы захотим стать опять русскими – спасение для нас еще возможно». Понятно, что современники недолюбливали Грибоедова, находя его манеры неприятными, а ум – озлобленным.
Пушкинская ранняя строка «Ум ищет божества, а сердце не находит» дает ключ к жизненной драме не одного только Пушкина, но и всех классиков нашего Золотого века, шедших в своем творчестве от «французского» корня. Пушкин, Баратынский, Катенин, Вяземский, Грибоедов – это прежде всего люди, страшно обкраденные в первой молодости, пришедшейся у них на те годы, когда так страшно свирепствовала в России язва вольтерьянства. Сердце, «средоточие душевной и духовной жизни» (Юркевич), было более или менее опустошено, более или менее разорено у каждого из них. Но французская атеистическая мысль, прививаясь к благородному стволу русской культуры, сразу же начинала перерождаться: сохраняя ясность и изящество, она стремительно теряла свою легковесность, свое позорное самодовольство. Трезвость и моральность мышления, родовые наши черты, пересиливали французский кураж.
Поэты, перечисленные мною, не всегда утешают. Еще реже способны они умилить, разжалобить читателя. Но это последние русские поэты, в чьем творчестве отсутствуют процессы тления, ржавения, гнилостного брожения – даже в зародыше.
Стойкий иммунитет против любых суррогатов духовности, будь то внеконфессиональный мистицизм или безрелигиозное подвижничество борцов за права человека, – великолепный подарок русскому человеку от поэтов пушкинского круга.
К любому из них применимо острое слово Баратынского: «Такая поэзия лучше хлору очищает воздух».
Литературный шедевр сам за себя отвечает, сам себя поддерживает. Если вы в первый раз прочли «Горе…» и ничего особенного в нем не нашли – значит, вам уже бесполезно, уже поздно что-либо объяснять. А если вы волнуетесь, как юнец, в десятый раз перечитывая старую пьесу, – это тем более необъяснимо.
Чтобы ответственно судить о «Горе…», нужно быть, во-первых, не глупее его создателя, а во-вторых, нужно восемь лет размышлять о пьесе так же напряженно и неотступно, как это делал Грибоедов с 1816 по 1824 год.
«Горе…» выше моего суда, выше моего понимания. Скажу только несколько слов по поводу «гениальнейшей русской драмы» и на этом закончу сегодняшнее чтение.
«Колоссальная языковая емкость» грибоедовской пьесы, «виртуозная укладка стиха», о которых пишет советская исследовательница И. Н. Meдведева, генетически связаны с классической драматургией Франции. Этим вещам Грибоедов учился у Расина и Мольера. Но его «Горе…» – пересоздание, не перевод. У французских классиков Грибоедов заимствует «виртуозность укладки» и «колоссальную емкость», а не стих и не язык. Заимствует, по сути дела, одну гениальность.
«Крылов <…> приготовил язык и стих для <…> Грибоедова» – в этой благоглупости Белинского, как и в некоторых других его высказываниях, содержится рациональное зерно. Крылов, пересоздавая на русской почве Лафонтена, трудился, можно сказать, на глазах у десятилетнего Александра Грибоедова. Опыт Крылова Грибоедовым, несомненно, учитывался.
Стих «Горя…» не явился для русского театра новинкой. Уже у Шаховского мы встречаем вполне удовлетворительные образцы вольного рифмованного ямба. По замечанию Медведевой, «вольные ямбы русской драматургии в основе своей традиционны и восходят к комедийной практике французского классического театра». Грибоедов, таким образом, совершил не «открытие» вольного ямба, а как раз его «закрытие». Все, что написано этим размером по-русски после Грибоедова, воспринимается как неуклюжая пародия на «Горе от ума», отторгается, изгоняется за пределы живой литературы.
Творческая смелость и удачливость Грибоедова оказались таковы, молния ударила с такой силой, что на этом месте никому уже не придется гулять и рвать цветы. Это место пусто. Нужен гений, чтобы снова вдохнуть душу стиха в искореженную, выжженную форму, а гений (как учил Ап. Григорьев) приходит со своим словом.
Вслед Крылову, убившему русскую басню, Грибоедов у нас на глазах «закрывает» еще и русскую стихотворную комедию. (А вскоре Ершов прикроет стихотворную сказку, Кольцов – литературную «русскую песню»; об этих важных событиях мы поговорим подробнее в свое время).
«Горе от ума» рассматривалось исследователями как драма бытовая, психологическая, социально-политическая, музыкальная, причем концы у исследователей каждый раз сходились. То есть эта пьеса исключительно богата содержанием. Но все ее богатство проницает, организует и удерживает в равновесии мощная лирическая струя. Лицо грибоедовского шедевра с его «необщим выраженьем» определяет именно лирическое начало.
Снова и снова сталкиваемся мы с упрямым фактом: в русской поэзии лирика и эпос заведомо преобладают над драмой. Примем этот факт как данность. Очевидно, в русском космосе нет многообразных и автономных правд, которые могли бы сшибиться и высечь искру трагического. Иисус Христос, Солнце Правды, не оставляет нам выбора. Конечно, можно и в полдень крепко зажмуриться и жаловаться на темноту, но такой образ действий еще не делает человека трагическим героем. В первых русских трагедиях («Борис Годунов», «Преступление и наказание») речь пойдет совсем не о том, о чем шла она испокон века в классической драматургии Запада. Но об этом после.
Напоследок еще ненадолго задержимся над одним из персонажей грибоедовской комедии. Поговорим о Софье.
До Гончарова умнейшие наши критики и знатоки не находили в этом образе ничего. Даже Пушкин, даже Ап. Григорьев Софью как-то проглядели. Да и после Гончарова мы ничего нового уже не добавили к оценке Софьи Павловны. Было, правда, интересное суждение Н. К. Пиксанова, которое я приведу полностью: «Долгие годы и даже десятки лет исполнение роли Софьи не выдвигало ни одной актрисы, и это не было случайностью. Играть семнадцатилетнюю Софью должна актриса молодая, навыков же, артистической зрелости и продуманности требуется как от самой опытной, пожилой актрисы. По преданию, некоторые актрисы первое время отказывались играть Софью. В образе Софьи, которую многие авторитетные ценители литературы находили неясной, заключено сложное и трудное сочетание трех психических рядов: глубокой, сильной, горячей натуры, внешней книжной сентиментальности и развращающего общественного воспитания».
Все верно. Но можно и добавить к сказанному кое-что. Видите ли, «мир во зле лежит», и в человеческом общежитии больше приходится думать о выборе наименьшего зла, чем о поисках абсолютного добра. Общественное воспитание всегда развращает (хотя Фамусов – корифей ума и титан духа по сравнению с вельможами брежневской или ельцинской Москвы).
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




