Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 41
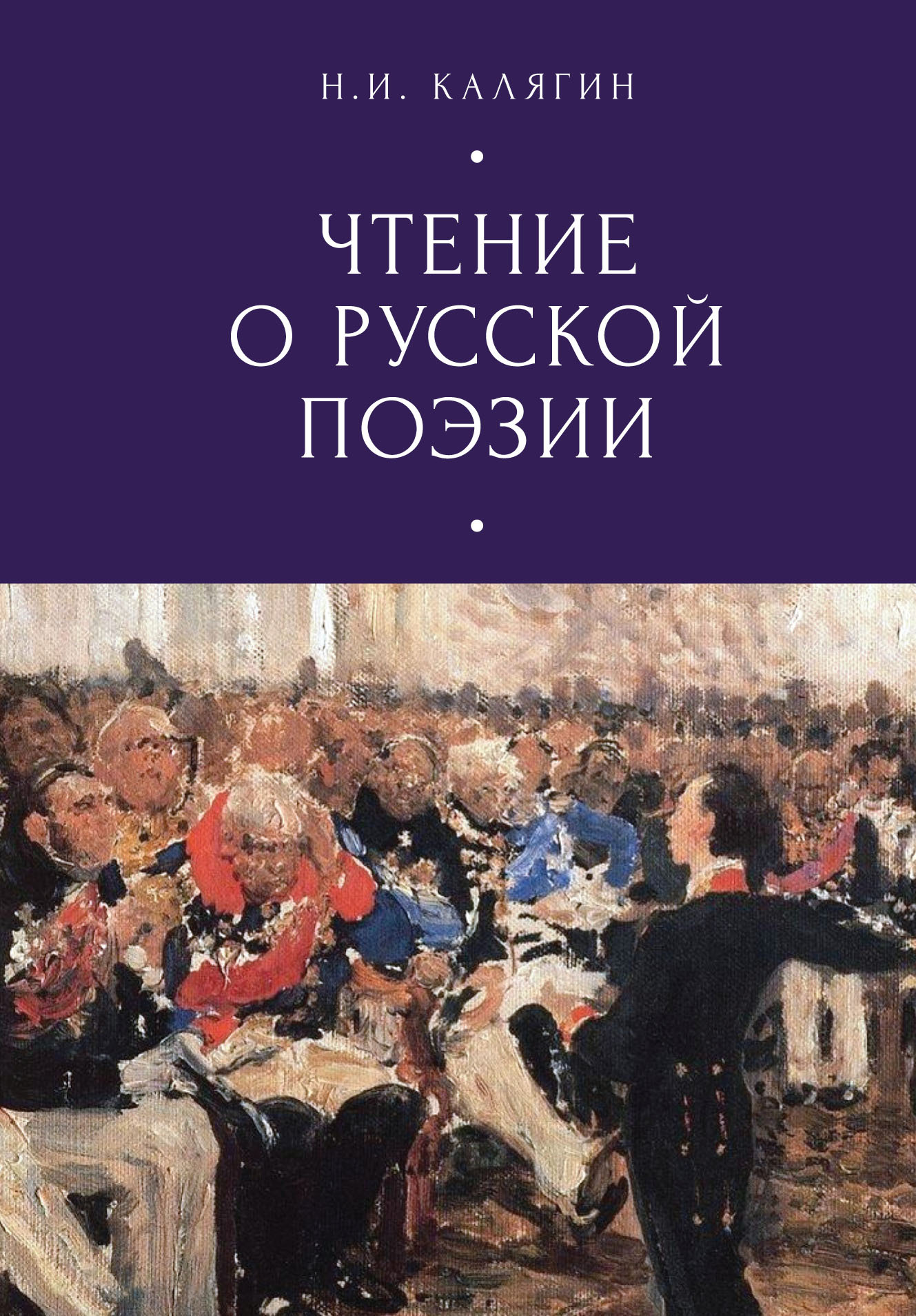
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
Вот это последнее замечание и вызвало бурю ненависти к Шишкову. И прежде всего, оно было определено как «донос». И это очень смешно.
Имя Карамзина в «Рассуждении» не упоминалось ни разу; но если бы даже Карамзин действительно отроду не бывал в церкви, а Шишков написал по этому поводу формальный донос и отнес его в канцелярию Священного Синода, то, разумеется, никаких последствий для Карамзина такой донос в 1803 году не имел бы. А вот Шишкову, подавшему свое мнение по вопросу, лежащему вне сферы адмиральской компетенции, пришлось бы явиться к митрополиту Амвросию и получить соответствующее внушение.
Тем не менее, эти слова («доносчик», «донос»), распространяясь шире и шире, оказывали вполне понятное воздействие на пылкую дворянскую молодежь, определяли ее отношение к личности адмирала Шишкова. Здесь мы присутствуем чуть ли не при рождении той «странной власти», которая стала в России XIX века «сильнее всяких коренных постановлений», – вы понимаете, что я говорю сейчас про либеральную жандармерию. Она появляется на свет намного раньше, чем официальная жандармерия, которую вынужден был завести Николай I после событий 14 декабря.
Ненависть молодых карамзинистов к Шишкову очень понятна психологически. Карамзиниста ведь «несет»: он по-новому совершенно чувствует, он культивирует такие вкусы, такие привычки, о которых и слуху не было лет 10–20 назад в стране Скотининых и Простаковых, он в восторге от себя самого и от своих друзей – и вдруг из пустыни (ибо мир, в котором не живут сердцем, пустыня) раздается этот грубый, равнодушный голос, напоминающий о церковной службе, которую нужно выстаивать два-три часа (а каково это человеку подвижному!), за которой нужно молчать, выслушивать ненавистную славянщину, после которой какой-нибудь поп, того и гляди, ткнет тебе в губы руку для поцелуя или даже крест… Тут мудрено не прийти в бешенство! И кто напоминает, кто учит? Старик Шишков, который сам женат на лютеранке, в доме у которого на французский манер, как у всех порядочных людей, воспитываются племянники! Что ему нужно, чего ему не хватает?!
В историческом споре Карамзина с Шишковым Карамзин, как мы помним, не участвовал. Он занимался русской историей, погружался в работу все глубже, в чем-то менялся, старел… Пройдет совсем немного времени, и Шишков с одобрением напишет, что в своей «Истории» Карамзин «не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал».
То есть язык «Истории государства Российского» есть именно тот язык, за который ратовал президент Российской академии А. С. Шишков. В год выхода в свет первых восьми томов «Истории» ее автор избирается наконец в члены академии.
5 декабря 1818 года Карамзин произносит вступительную речь. И говорит он о том, что высшей целью мировой истории является «раскрытие великих способностей души человеческой». Ничто иное. Русская пословица «Каков в колыбельку, таков и в могилку» вполне оправдалась на Карамзине. Верность гуманистическим идеалам он сохранял до конца.
Но ведь только в ХХ веке гуманизм выговорил свое окончательное слово: человекобожие, антихристианство. В 1818 году сам черт, наверное, не до конца представлял, куда заведет вдохновленное им движение. Шишков, во всяком случае, этого не знал. Для него достаточно было, что Карамзин «возвратился к языку» (якобы), перестал его портить. Вражда между Шишковым и Карамзиным затухает, не успев разгореться.
Но карамзинисты полны боевого задора, у них зубки прорезались и, как это обычно случается с молодыми зубками, зачесались; карамзинисты создают «Арзамас» – общество скорее ритуальное, чем литературное.
«Беседа любителей русского слова» («губителей», в прочтении карамзинистов) была основана в 1811 году, на следующий год началась европейская война, а уже по ее окончании, в 1815 году, организовался «Арзамас». Подробнее об этом времени мы поговорим, если Бог даст, в следующий раз. Сегодняшнее чтение закончено. И только одно замечание – на дорожку, чтоб было о чем подумать в перерыве.
Название «Арзамас» родилось следующим образом. Некий воспитанник Академии художеств, женившись, перебрался на жительство в Арзамас. И раз уж все равно приходилось ему там жить, открыл при своем доме частное учебное заведение – школу живописи.
По какому-то случаю об этом прослышал Вяземский, узнали другие молодые карамзинисты, и им это показалось невероятно смешным: в захолустном Арзамасе обнаружилась Школа Живописи! Стали обыгрывать смешную ситуацию, перебрасываться словечками; кто-то придумал назвать эту школу Арзамасской академиею – получилось еще смешнее («хохот пуще», как сказал бы Грибоедов); и наконец, в подражание учредили в Петербурге «Арзамасское ученое общество».
Таким образом, молодые карамзинисты избрали Арзамас как символ русского захолустья и русской дикости, подняли для борьбы с угрюмым славенофилом Шишковым такое вот издевательское, веселенькое знамя, которое означало: «Вот тебе твоя народность. Ар-за-мас! На, ешь…»
Довод неотразимый, конечно; набравший особенную силу в послесоветский период нашей истории. Но именно к Арзамасу приписаны Саровская пустынь и Дивеево – это все Арзамасский уезд. Преподобный Серафим Саровский прожил здесь 55 лет, а с 1810 по 1815 год находился в строгом затворе, молясь за Россию, чье существование подвергалось в эти годы смертельной опасности. И именно к этим местам приковано сегодня (после обнародования архиепископом Аверкием «Великой дивеевской тайны») внимание всего православного мира.
Такая вот история с «Арзамасом», такое совпадение, которое можно при большом желании счесть случайностью.
1996
Чтение 4
Сегодня мы продолжим разговор о русской поэзии в царствование Александра I и закончим 1825-м годом, то есть будем говорить о времени, непосредственно предшествовавшем Золотому веку нашей поэзии.
Небольшой промежуток времени, но насыщенный, богатый событиями, главное из которых, безусловно, Отечественная война 1812 года, грандиозное столкновение двух сил, которые мы назовем вслед Тютчеву, – Россия и Революция.
Наполеон, «сын революции ужасной», вступает в русские пределы, и его крушение, гибель его шестисоттысячной армии становятся новым звеном в той цепи святых чудес, из которых состоит даже и до настоящего времени история России.
О Французской революции мы с вами заговаривали уже неоднократно; может быть, вам запомнились слова К. Леонтьева про «общечеловеческий вред», ею причиненный.
Тот же Леонтьев за три года до смерти пишет про Францию 1888 года: «Все в ней, в ее жизни стало бледнее на наших глазах (на глазах людей уже немолодых, как я). Религию гонят и презирают, и верующие люди уже не находят в себе сил для кровавого в пользу веры восстания, пышности настоящей, аристократической, нет, есть капиталистическая фальсификация барства. Монархия прочная, серьезная, требующая подчинения любви, уже неосуществима». И дальше следуют рассуждения Леонтьева о падении французской литературы, также совершившемся на протяжении одной, не очень долгой, человеческой
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




