Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология Страница 19
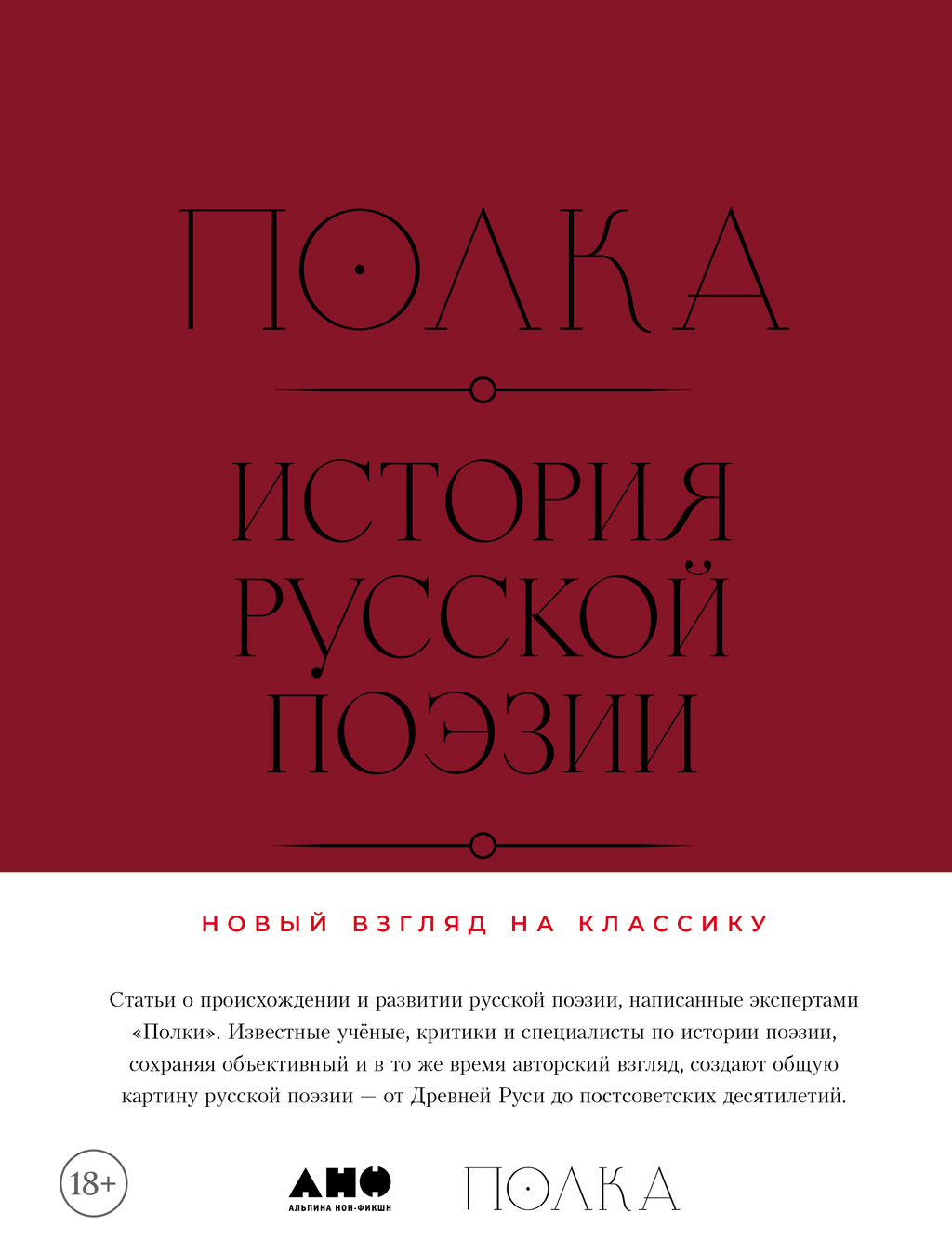
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Коллектив авторов -- Филология
- Страниц: 218
- Добавлено: 2025-09-02 00:05:21
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология» бесплатно полную версию:В это издание вошли статьи, написанные авторами проекта «Полка» для большого курса «История русской поэзии», который охватывает период от Древней Руси до современности.
Александр Архангельский, Алина Бодрова, Александр Долинин, Дина Магомедова, Лев Оборин, Валерий Шубинский рассказывают о происхождении и развитии русской поэзии: как древнерусская поэзия стала русской? Откуда появился романтизм? Что сделали Ломоносов, Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский, Ахматова, Бродский и Пригов? Чем объясняется поэтический взрыв Серебряного века? Как в советское время сосуществовали официальная и неофициальная поэзия? Что происходило в русской поэзии постсоветских десятилетий?
Полка. История русской поэзии - Коллектив авторов -- Филология читать онлайн бесплатно
К шиллеровским мотивам — тоске по утраченной гармонии золотого века, когда человек был способен чувствовать природу, а человеческие отношения были подчинены голосу сердца, — впоследствии не раз обращались поэты следующего поколения, прежде всего Баратынский (в «Последнем поэте» и «Приметах») и Дельвиг (в идиллии «Конец золотого века»). О том, насколько важен был Шиллер для самоопределения чувствительного поэта, обладателя «прекрасной души», свидетельствует образ Ленского в пушкинском «Евгении Онегине». В Ленском черты поэта-энтузиаста утрированы до пародийности:
Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что безотрадно изнывая,
Его вседневно ждёт она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья…
Здесь мы видим и идеалистическую веру в «родную душу» (эта вера восходит к «Пиру» Платона, где рассказывается об андрогинах — изначально двуполых существах, некогда разделённых пополам Зевсом и с тех пор стремящихся обрести ту самую «вторую половину»), и культ любви и дружбы, и уверенность в высшем предназначении человека. Похожие мотивы развиваются и в предсмертной элегии Ленского, который в ночь перед дуэлью открывает именно Шиллера: здесь и тоска по недостижимому идеализированному прошедшему — ранней юности («Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни…»), и мысли о загробной жизни и неотвратимости судьбы («Паду ли я, стрелой пронзённый, / Иль мимо пролетит она…»). В середине 1820-х годов все эти мотивы звучали ощутимо пародийно — но именно потому, что такие сюжеты и формулы очень активно разрабатывались в поэзии двух предшествующих десятилетий. В 1800-е годы изобретение языка для этих чувств, ощущений и рефлексии над ними было важнейшей заслугой поэтического поколения Василия Жуковского (1783–1852) — и в первую очередь его самого.
Посмотрим на стихотворение раннего Жуковского «Вечер», опубликованное в 1807 году:
Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем…
О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!
Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!
<…>
Так, петь есть мой удел… но долго ль?.. Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придёт сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!
Здесь и задумчивость, и меланхолия, и вера в дружбу, и тоска по дружескому кругу, и воспоминание о прошедшей молодости, и мысли о скорой и безвременной смерти — все мотивы, которые лежат в основе элегии нового типа, медитативной или унылой. В центре такой элегии — уже знакомый нам «чувствительный человек», стремящийся к идеальному миру, с тонкой и сочувствующей «прекрасной душой». Ценя естественность и простоту, он предаётся размышлению, мечтам и воспоминаниям на лоне природы, вдали от шума города и цивилизации. Именно природа, представляющая неиссякаемый источник впечатлений, действующих на душу и рождающих эмоции, особенно занимает элегического героя. Он, с одной стороны, стремится передать сложную гамму собственных чувств, вызванных природой, с другой — так описать окружающий его пейзаж, чтобы читатели могли испытать сходные ощущения. Из этого возникает такое свойство романтического пейзажа, как суггестия — то есть внушение, подсказывание, нагнетание, на которые работают и подбор образов, и эпитеты, и звукопись, и повторы:
Уж вечер… облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.
Всё тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простёршись на траве под ивой наклонённой,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осенённой.
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
«Вечер»
Эти свойства романтического пейзажа и романтической элегии Жуковский попытался описать в хрестоматийном «Невыразимом». Поэт раскрывает свою мысль постепенно: сначала «невыразимой» объявляется сама красота природы («Но льзя ли в мёртвое живое передать? / Кто мог создание в словах пересоздать? / Невыразимое подвластно ль выраженью?..»), но затем оказывается, что «есть слова» для этой «блестящей красоты», а истинно невыразимым оказывается
…то, что слито с сей блестящей красотою —
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающего глас,
Сие к далёкому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет,
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?..
Но и эти эмоциональные ассоциации — при помощи суггестивных описаний, при помощи слов-символов и эмоциональных эпитетов — поэту парадоксальным образом удаётся передать и выразить таким образом «невыразимое».
Такой же подход — попытка благодаря поэзии достичь недостижимое, преодолеть границы — характерен и для других элегических тем. Герой элегии исполнен тоски по идеалу и мучится от того, что этот идеал навсегда утрачен (как золотой век, детская наивность или первая любовь) или же недостижим на земле (как христианский рай или античный Элизей). Отсюда та роль, которую в элегиях играют мечты или воспоминания. Отсюда и любовь авторов элегий к сюжетам, которые связаны с утратой, мистическими пространствами, потусторонним миром. Неудивительно, что особой популярностью пользовалась кладбищенская элегия. Два ранних и наиболее ярких образца жанра — «Элегия» Андрея Тургенева (1802) и
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




