Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин Страница 19
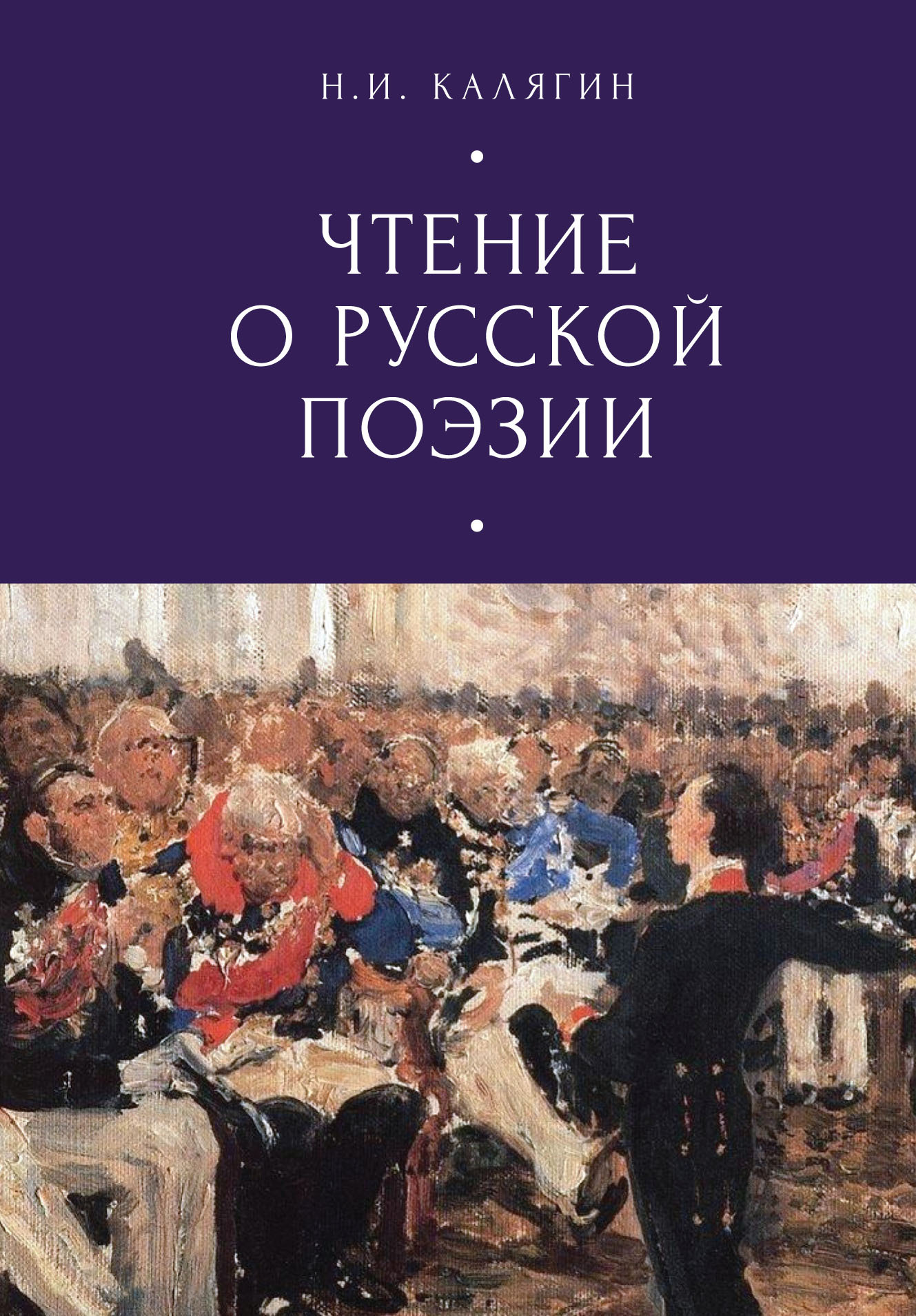
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Николай Иванович Калягин
- Страниц: 69
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:03
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин» бесплатно полную версию:«Чтения о русской поэзии» ведут свое происхождение от докладов, с которыми автор выступал на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Страхова, начиная с 1993 года. Последний такой доклад, посвященный творчеству Случевского, прозвучал в 2019 году. Все 15 чтений, написанные к настоящему времени, опубликованы журналом «Москва» между 2000 и 2020 годами. Но эти журнальные тексты со времени их публикации многократно переписывались и дополнялись.
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - Николай Иванович Калягин читать онлайн бесплатно
«Роскошь», «вкус», «великолепие» – три слова, которые к поэзии Петрова приложимы вернее, чем к какому-либо другому литературному явлению той баснословной поры. Чтобы сегодня воспринять эту поэзию, требуются усилия, требуются кое-какие знания, – но это не невозможно.
«Ода на великолепный карусель» (первый ее вариант) остается, пожалуй, лучшим созданием Петрова; и атмосфера того давнего праздника, действительно великолепного, может быть нами хотя бы отчасти почувствована прямо сейчас, здесь, на этом месте:
Убором дорогим покрыты,
Дают мах кони грив на ветр;
Бразды их пеною облиты,
Встает прах вихрем из-под бедр:
На них подвижники избранны
Несутся в путь, песком устланный;
И кровь в предсердии кипит
Душевный дар изнесть на внешность,
Явить нетрепетну поспешность;
Их честь, их царский взор крепит.
Но что за красоты сияют
С гремящих верха колесниц,
Что рук искусством превышают
Диану и ее стрелиц? —
а это, после торжественного вступления в амфитеатр всех четырех кадрилей, начались «дамские на колесницах курсы»:
Подняв главу из теней мрака,
Позорищный услышав шум,
Со устремленьем томным зрака
Стоит во мгле смущенных дум
Бледнеюща Пентезилея,
Прискорбный дух и вид имея,
Прерывным голосом рекла:
«Все б греки в Илионе пали,
Коль сии б девы их сражали;
Ручьями б кровь их в понт текла.
И тщетно было б то коварство,
Что плел с Уликсом Диомид:
Поднесь стояло б Трои царство
И гордый стен Пергамских вид…»
Вслед Пентесилее Василий Петров выводит для нас «из теней мрака» Салтыкова и Репнина, славного Миниха, который в свои восемьдесят три года был главным судьей каруселя; выводит братьев Орловых:
Подобный здесь царю пернатых
Полет в героях вижу двух,
Желанием хвалы объятых,
Подвижнических мзды заслуг.
Сияя видом благородным,
Являют вдруг очам народным
Соперничество и родство…
Г. Макогоненко особенно возмущен тем, что ломоносовский стих, ломоносовские образы используются Петровым для описания всего-навсего «конного состязания перед лицом императрицы». Это-то и есть предел падения оды.
«Ломоносов, славя подвиги русских воинов, которые под предводительством Петра превратили Россию в могучую державу, сравнивал их с героическими римлянами. Петров использует это сравнение, чтобы показать “римский дух”… в братьях Орловых, отличившихся на карусели».
Возмущение Макогоненко очень забавно. Всему свету известно, что братья Орловы отличались не только на каруселе. А обычай воспевать досуги героев, описывать подробнейшим образом их успехи в различных метаниях, единоборствах, конных состязаниях был хорошо известен уже во времена Гомера. Приписывать Петрову изобретение этой традиции – большая, но и чрезмерная все-таки честь.
В своей Хотинской оде Ломоносов десять раз упоминает Анну Иоанновну, проживавшую постоянно в Петербурге, и совсем не говорит про Миниха, хотя именно Миних руководил войском, бравшим Очаков и Хотин. В «Оде на карусель» Петров не просто показывает нам престарелого фельдмаршала, который «лавры раздает» особо отличившимся спортсменам, но и вспоминает прежние его победы – именно они придают настоящий вес карусельным лаврам.
Что же касается «римского духа в братьях Орловых», то Петров действительно в одном месте своей оды сравнивает Григория Орлова с Децием и Камиллом. Только вряд ли он вычитал это сравнение у Ломоносова: просто Григорий Орлов на каруселе 16 июня возглавлял «римскую» кадриль, соответственно этому был и одет. Орлов Алексей командовал в тот день кадрилью «турецкой» – Петров и сравнивает его с Измаилом, родоначальником агарян, что не означает, наверное, присутствия в братьях Орловых специального турецкого духа.
Замечу попутно, что у меня вызывает белую зависть повышенное самочувствие многих наших литераторов, позволяющее им взирать свысока на Орловых, Потемкина, на саму Екатерину… Какой-нибудь Зощенко, едва возвратившись из позорной поездки по Беломорскому каналу, садится и пишет про графа Алексея Григорьевича Орлова (называя его попросту «Алешей»): «Будь он жив, мы били бы его в морду при первой встрече». Приятное самообольщение… Орловы, потомки стрельца Адлера, который на плахе поразил Петра I своим хладнокровием и был царем помилован, с чувством страха знакомы вообще не были. А Алексей Орлов еще и шестерку разогнавшихся коней останавливал одной рукой. Так что не очень понятно, какая у мнительного, слабонервного Зощенко могла быть с ним «первая встреча». Впрочем, Орлов держал для бедных дворян открытый стол, за который садилось нередко по сто человек, – вот туда мог бы еще попасть автор «Рассказов о Ленине». А дальше столовой ему нечего было делать в доме Орлова, да его бы и не пустили дальше.
Много пишут сейчас про возрождение духа Древней Эллады в России ХIХ века (московские и петербургские салоны – «северные Афины», Пушкин – Протей, Периклес – Чаадаев, Баратынский – «счастливый образец изящности афинской», Алкивиад – Леонтьев и проч.) – ничего этого не было бы и не могло бы быть без Екатерины и Петра, без великолепного Потемкина, без флотоводца, духовидца, цареубийцы Алексея Орлова с его «греческими глазами» и «повелительной красотой всего колоссального его вида». Дочь-молитвенница раздала миллионы для облегчения загробной его участи; оградить имя отца от мышиных диверсий отважных советских литераторов оказалось не в ее власти.
Птица Минервы вылетает в сумерках; веку мудрецов и поэтов необходимо должен предшествовать век героев – таков именно и был русский ХVIII век.
«Ода на карусель» заканчивается славословием, от которого дух захватывает у современного читателя, не привыкшего к открытому и свободному исповеданию монархических чувств:
Средь многих божеству приличеств,
Екатерина новый путь
Открыла достигать величеств,
Свой дух вливая в верных грудь.
Как солнце в целом светит мире,
Всем виден блеск в ее порфире,
Без ужасу своих громка,
Без гордости превознесенна,
Без унижения смиренна,
Без всех надмений высока.
Благополучен я стократно,
Что в сем живу златом веку…
Хорошо. Отложив книгу, замечаешь, что чтение тебя освежило и укрепило, что ты встряхнулся, обновился – как будто и в самом деле побывал на площади перед Зимним дворцом, протискивался там между зрителями, крутил головой, волновался:
Я странный слышу рев музыки!
То дух мой нежит и бодрит…
Действительно хорошо. И как-то даже удивительно
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




